Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
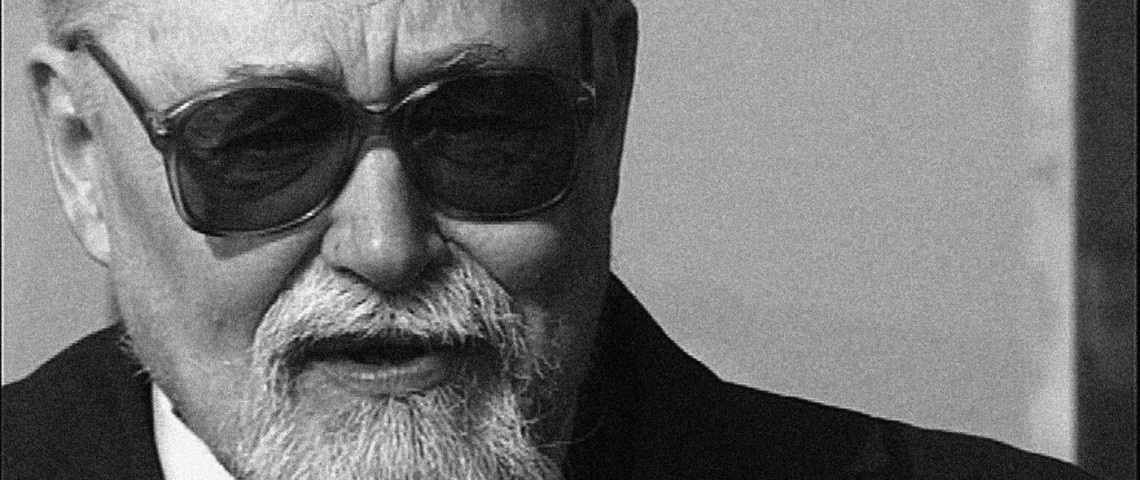
Я очень высоко ценю Пятигорского, но человек он крайне легкомысленный – и в своем жизненном поведении, в отношении с женщинами и т.д. У него было бесчисленное количество друзей, и он тратил массу времени на разговоры, большей частью – монологи. Это было его стихией, тут он был в своей тарелке.
Может, это и есть его осуществление?
Вы правы, Пятигорский осуществил себя, но вот сейчас он мыкается по свету, у него нет своего пристанища и на старости лет как бы начал новую жизнь, но с очень низкого, во всяком случае, материально-бытового уровня.
Но это же нельзя ставить в упрек... Возможно, должна быть какая-то жизненная задача, а уже исходя из ее осуществления, мы можем расценивать человека как осуществившегося или неоь существившегося?
Я совершенно согласен с вами и в некотором отношении не согласен с самим собой. Просто потому что он был как такой яркий метеор, который промелькнул на горизонте и исчез. От него ждали большего и в таком совершенно конкретном, чисто научном плане. Но он избрал другой путь, другую стезю, и избрал, видимо, правильно, потому что в этом он был более силен. Но, конечно, мы переживали, когда он уезжал из Советского Союза. Я хорошо помню прощальный вечер у него, присутствовал его старик-отец, мать, которые время от времени приезжали к нам втайне от сына и говорили: «Что делается с Сашей, мы просто боимся, что он погибнет. Сына своего назвал почему-то Максимом, ну что это за безумие?» И все было вот в таком духе. Саша раздал нам, моей жене и мне, много книг, причем большей частью библиотечных. Я не знаю, вам говорит что-нибудь имя Юрия Николаевича Рериха?
Безусловно.
Рерих приехал в Россию, осуществляя желание уже покойного тогда его отца, который, как вы знаете, был тесно связан с Латвией, и в Риге было большое собрание его картин. Юрий Николаевич Рерих получил блестящее образование в Оксфордском университете и в Париже. Он феноменаль но знал и говорил как на современных индийских языках, так и на санскрите (что уже совсем из ряда вон выходяще), прекрасно говорил на тибетском, на монгольском, на китайском и японском. Короче говоря, читал на всех языках, на которых были буддистские тексты, – и те, которые были открыты еще в XIX веке, и те, которые были открыты в Восточном Туркестане, отчасти в Таджикистане, уже в середине XX века. На самом деле Юрий Николаевич был убит. И в некотором роде виной этому был я. В 1960 году, в марте месяце, вышел мой перевод «Дхаммапады», памятника раннего буддизма, и ответственным редактором был Рерих. У Рериха был высокий покровитель Хрущев, который почему-то – знаете, такая странность – очень его любил. В это время в Москве послом Цейлона был профессор Малаласекара – один из лучших буддологов середины XX века. И он по-стоянно устраивал приемы в цейлонском посольстве, там часто бывала моя жена. (Посол преподавал буддийский санскрит узкой очень группе людей, в том числе и моей жене.) И когда появилась «Дхаммапада», заместитель директора Института востоковедения, такой Ильиновский, который отсидел 25 лет в лагерях и был выпущен по амнистии при Хрущеве, сказал Рериху: «Лучше бы вы сюда не приезжали, мы не потерпим вашего присутствия в нашем институте!» Положение было бы гораздо более тяжелым, если бы Малаласекара, друг Рериха, сразу же, буквально в тот же день не послал сообщение о выходе «Дхаммапады» в самые разные западные страны. Этот перевод вышел в знаменитой серии памятников северного буддизма, которая была основана еще в конце XIX века в Петербурге Ольденбургом и Щербацким – знаменитыми буддологами и в более широком смысле индологами. Последний номер серии, 30-й, вышел в 1931 году – в этом году много что вышло в последний раз. Так вот, Малаласекара позвал разных представителей из Союза советских писателей, официальных лиц на прием в честь «Дхаммапады» в цейлонское посольство, и они с кислыми выражениями лица там присутствовали. Юрию Николаевичу Рериху было 59 лет, и он был необыкновенно бодрый. Каждое лето он ездил в Монголию (в другие страны его, естественно, не пускали) и там жил в юрте, ездил только на коне и т.д. Для него было важно полностью адаптироваться в той восточной стране, в которой он находился. Больше всего он, конечно, любил Тибет. Вы знаете, что еще в 20-х годах было путешествие через весь Тибет? К сожалению, как это выяснилось в последнее время, эта экспедиция инспирировалась Лубянкой.
И это на самом деле доказано?
Да, доказано. Это доказано, к сожалению, абсолютно бесспорно. Николай Рерих был человек очень наивный и верил в то, что в России особый путь и этот особый путь осуществляется именно новой коммунистической властью. Ловил все положительное, касающееся культуры. А вообще в 30-е годы, отчасти в первой половине 40-х годов еще сохранялось поколение, и в частности, востоковеды и не только востоковеды, старое, дореволюционное поколение. И он ориентировался на них и не хотел обращать внимание на то, что происходит. А цель была в Тибете описывать английские объекты и т.д. У нас задолго до того, как это стало известно, было очень подозрительно, что он из Тибета прошел в Среднюю Азию, перешел границу и оказался в Москве. Он имел дело именно с Лубянкой, и он там говорил, что индийские и тибетские махатмы признали Ленина великим Махатмой, хотя Ленин уже давным-давно умер. И это было совершенно искреннее убеждение.
И эти же письма махатм он же или его жена и сочинили.
Да-да. Сейчас у нас два таких процесса полярных. С одной стороны, есть люди, которые... Такой вот вакуум духовности, для которых Рерих был единственным светочем, из которого они черпали что-то, чего душа их жаждала, но не могла получить иным образом. Таких людей иронически называли рерихосвихнувшимися, т.е. свихнувшимися на почве Рериха. Другая сторона настроена более критически.
Когда я читал Рериха, меня поразило, что все это говорение о культуре – одно пустозвонство, новая идеология какая-то.
Я совершенно согласен с этим, и вообще все, что я читал у Рериха-отца, проявляет его поразительную наивность. Известна его переписка с таким известным художником (он умер в начале века) Грабарем, родственником Андре Грабара, французского искусствоведа, специалиста по раннехристианскому искусству. В этой переписке наивность Рериха-отца совершенно поразительна.
Однако его сын, Юрий Николаевич Рерих, действительно был выдающимся ученым. Сейчас многие его труды переизданы, переведены. Познания его были совершенно поразительны. Я много занимался буддологией, статьи переводил, и я должен сказать, что из западных буддологов я мог назвать два-три имени, которые по эрудиции были бы равны Юрию Николаевичу. Я подчеркиваю – по эрудиции. Я бы назвал прежде всего двух немецких ученых – Вальдшмидта и Веллера. Моя жена была знакома и с тем, и с другим. Веллер ее принимал у себя. Он категорически отказался жить в Западной Германии и перешел в Восточную из-за того, что американская авиация сровняла с землей Дрезден. В Дрездене вообще не было никаких военных объектов, и уже война кончалась... Более того, они не знали, где находится знаменитая Дрезденская галерея, и слава богу, что она была спрятана. И потом долгие годы, до 1956-го, она хранилась в России, в Музее изящных искусств, а потом ее Хрущев отдал в Восточную Германию.
Вы не закончили рассказ о том, как вы убили Рериха.
Мы понимали, что все кончится плохим. Это было с марта по начало мая. Мы понимали, что над Рерихом висит какая-то очень большая опасность, именно опасность его жизни. Его не могли публично бичевать в печати, критиковать – на это они были не готовы. Поэтому единственный выход был в тайном устранении. И вот тут начинается мистика. Дело в том, что 15 мая 1960 года родилась наша старшая дочь. А на следующий день я пришел в родильный дом, и моя жена говорит: «Ты знаешь, мне всю ночь снился Юрий Николаевич, и он так ласково со мной говорил и прощался». Я говорю ей: «Это связано с твоим состоянием, таким очень восприимчивым». А это действительно в натуре моей жены. На следующий день – это был понедельник – я утром спускаюсь к почтовым ящикам, газету беру, и там краткое сообщение: «Скончался известный востоковед Юрий Николаевич Рерих». Вы понимаете, это было в ночь накануне, когда Рерих явился моей жене во сне. А он чувствовал нечто родственное с внутренним миром моей жены и как-то выделял ее, в основном говорил именно для нее, потому что для других больший интерес представляли просто рассказы из жизни Тибета, Северной Индии.
Как вы понимаете, никаких документов нет, но общее мнение людей достаточно эрудированных известно. Кроме того, здание на Лубянке, один из новых корпусов, стоит впритык к теперешнему Институту востоковедения, а над ним, буквально на расстоянии 15 метров, такой узенький двор. И вот стоит это высокое здание, на котором масса всяких огромных тарелок, улавливателей, все это контролирующих. Достаточно сказать, что потом директором стал... Мы там подписывали всякие письма в защиту тех, кого травили, увольняли, поэтому мы были персоной нон грата, никуда за границу нас, естественно, не выпускали и все прочее. Потом назначили директором института такого Гафурова. Это был очень оригинальный человек. Он был первым секретарем партии Таджикистана. Его уважал Сталин. Зная, что когда Бабаджан Бабаджанович приезжает в Москву, у него бывают незаконные связи с женщинами, он вызвал Гафурова и сказал, что у нас этого нельзя. Гафуров был человеком неграмотным. Он прошел медресе, школу в Таджикистане, по-русски умел только подписываться, но был академиком. Когда издали библиографию по востоковедению, оказалось, что у него в два-три раза больше работ, чем у самых выдающихся ученых. Работы были такие: «Борьба за урожай в Таджикистане в тысяча девятьсот таком-то году», «Крепим марксистскую идеологию в кишлаках» и все в таком духе. Он был председателем Советского комитета востоковедов, участвовал в международных конгрессах, притом что люди, заблаговременно уехавшие из России, публично против этого протестовали. Но он был, если угодно, таким восточным мудрецом, таким созерцателем. И он сам ушел из Института востоковедения, сказал близким людям, что умирать он хочет в Таджикистане и хочет, чтобы его похоронили по мусульманскому обряду. И он действительно уехал, и вместо него директором института назначили Примакова. А этот был нашим шпионом на Ближнем Востоке. В Сирии его обнаружили и должны были интернировать; он вынужден был убить одного из людей, который должен был его арестовать. И его вывезли тайным образом из Сирии в Москву. Он был человек отнюдь не глупый, по происхождению из Тифлиса; отца его расстреляли в 1937 году. В хрущевское время он был, так сказать, умеренным либералом. Он был в близких отношениях с таким известным грузинским востоковедом Гамкрелидзе. Гамкрелидзе поговорил с Примаковым, и результатом этого разговора было то, что вдруг Примаков вызвал Татьяну Яковлевну к себе. Она была младшим научным сотрудником – это самая низкая категория, хотя несколько книг к тому времени у нее уже было. И Примаков стал с ней по-отечески беседовать и сказал, что больше не будет никакой дискриминации, никаких преследований, но при одном условии – если вы никому не скажете об этом и вообще не скажете, что вы виделись со мной. И действительно, все изменилось. Ей дали старшего научного сотрудника, те рукописи, которые лежали в издательстве, пришли в движение и т.д. Но естественно, что на этом месте он долго не продержался, потом его востребовали на Лубянку. И с психологической точки зрения его фигура, фигура переходного времени такого советского чиновника высокого уровня интересная, там было и очень много отрицательного, я бы сказал, преступного, криминального, и вместе с тем какой-то попытки... Понимаете, советский режим себя сам изживал. Среди людей, среди детей и внуков тех, кто делал революцию, кто руководил в 1937 году, уже было ощущение, что дальше так жить нельзя. Все-таки нужны уже были какие-то либеральные реформы, нужно было более тесное общение с Западом, ведь Запад представлял необыкновенный соблазн. Для меня Запад – это были те книги, которые я читал... Я изучал Париж или Рим по дореволюционным путеводителям, но я не представлял, что я когда-нибудь окажусь в этих городах. Меня дочери спрашивали, до каких пор будет сохраняться такая ситуация, и я говорил: «Я падения коммунистического режима уже не увижу, не доживу, а вы доживете». И я ошибся, дожил и я, хотя опасность, конечно, существует. Сейчас Россия обречена дружить с Западом, с Америкой, потому что мы не сможем заплатить наших долгов никогда.
Считаете ли вы себя человеком культуры?
Трудно сказать. Во всяком случае, по критериям не только советским, но даже и теперешним, когда очень расширились горизонты культуры, западной культуры, культуры Востока, в том числе античной культуры, я могу себя считать культурным человеком, человеком культуры. Но вы понимаете, мне мешает, во-первых, моя биография. Я пошел в науку не оттого, что меня наука так уж интересовала. То есть она, бесспорно, интересовала, но, может быть, я бы избрал другой путь. Но наука для многих была просто прибежищем, чтобы не избирать другой путь. Я никогда не был комсомольцем, не был партийным, хотя меня неоднократно уговаривали, просто затаскивали. Как-то раз, когда я окончил университет, меня пригласили вдруг на кафедру заочного изучения марксизма-ленинизма в старом здании на Моховой. Я пришел туда, я был рекомендован в аспирантуру. И меня... Это удивительная вещь, ведь мы распознавали таких вербовщиков по лицу, по манере речи и т.д. И он стал меня расспрашивать, а я сразу понял, к чему он клонит, и поэтому, нарушая заветы скромности, я всячески подчеркивал, как я интересуюсь наукой, что меня рекомендовали в аспирантуру... Он спросил, какие языки я знаю. Строго говоря, я читаю на многих, даже очень многих языках, я могу изъясняться по-немецки, по-английски, пофранцузски и по-литовски, даже в былые годы чуть-чуть по-латышски, но я твердо знаю, что с ответственностью я говорю только на русском языке. Тут он вдруг перешел на английский язык и попросил меня рассказать свою биографию. Я на таком скудном английском языке изложил свою биографию. Он сказал: «Вы нам подходите. Сколько вы будете получать денег в аспирантуре?» – «Ну, положим, 400 рублей», старыми. Он сказал: «Будете получать в десять раз больше». Я говорю: «А что вы мне предлагаете?» – «Когда вы согласитесь, я вам скажу, и вы будете работать за границей». Я сказал: «Вы знаете, я решительно отказываюсь. Не пойду, и все». Он говорит: «Кто ваш научный руководитель?» – «Самуил Борисович Бернштейн, известный словесник». – «Хорошо, вы услышите от Самуила Борисовича, что он вам рекомендует принять наше предложение». Я говорю: «Вы знаете, это ничего не изменит». Тем не менее, распрощавшись, я ушел с опаской, что могут быть большие неприятности. Неприятностей у меня не было. Видимо, решительность моего отказа произвела некоторое впечатление. Но когда я окончил аспирантуру, меня снова вызвали туда и снова допрашивал другой человек, но той же самой профессии. И тут я изображал из себя дурачка и полуидиота, который не годится ни для чего. И меня отпустили с миром и без всякого нажима.
Вы ушли в науку, чтобы не делать другое. Является ли культура для вас такой ценностью, которая может стать задачей, обосновать жизнь?
Вы знаете, я понимал, что это хороший вариант, но не лучший. Дело в том, что вся моя семья, мои родители, моя бабушка были настроены резко антисоветски. И они прекрасно понимали, что вынуждены будут прожить свою жизнь в положении маргиналов. Так оно и было. Это очень много для меня значило. Меня крестили. Мне было три или четыре года, я знал, что люди умирают, но никогда не думал, что и мне предстоит умереть. И когда я это понял, меня охватил дикий страх, какая-то истерика, и отец меня повел в ближайший храм Флора и Лавра в том же квартале, где находился наш дом. После этого мы должны были пересечь Мясницкую и зайти на почтамт, купить конверты. И я говорю: «Неужели не было ни одного человека, который не умер или, умерев, не воскрес?» И папа... Я, естественно, знал Иисуса Христа, знал молитвы, у нас с дореволюционных времен сохранился огромный иконостас с иконами, перед которым всегда вечером зажигали свечи, семья была религиозная, и я молился. Отец рассказал мне об Иисусе Христе, о котором я, в принципе, знал, и почему-то меня это необыкновенно успокоило. И вдруг наступил момент не просто спокойствия, а некоторой благостности. На душе стало легко, светло...
Я знаю, как тяжело было людям расставаться с религией. Я помню, как люди уже понимали, что христианству приходит конец. Церкви в Москве закрывались, ломались. Я еще застал храм Христа Спасителя. Было известно, что его уничтожат, и примерно за две недели, как его взорвали, родители во время вечерней прогулки меня повели к нему. Там была масса народу, церкви посещались гораздо в большем количестве, чем до революции, потому что понимали, что настал момент прощания. Было очень много юродивых, нищих. Это то, что можно было бы назвать Святой Русью в последнем ее варианте.
Помню, какие были мучения во время коллективизации, голод был и в Москве – конечно, не сравнить с Украиной, где просто умерло несколько миллионов от голода. Единственной возможностью достать еду было в таких учреждениях, как Торгсин, где велась торговля с иностранцами и куда сдавали золото, серебро, драгоценности. И вот вечером, накануне того, как идти в Торгсин, снимали оклады. Золотых окладов не было, но золотыми были обручальные кольца родителей, их сдали. А потом было как такое святотатство: вечером собирались за самоваром и обсуждали, снимать оклад с иконы или нет. Сначала говорили: «Нет, ни в коем случае нельзя», потом другой виток: «Ведь так просто с голоду погибнем». Потом утешение: «Мы ведь иконы оставляем у себя, пусть они без окладов будут». Но было осознание того, что совершается преступление, грех на душу берем. На следующий день мы с мамой шли в Торгсин, нам выдавали деньги. Я помню, что за эти деньги мы могли купить маленькую баночку сметаны и маленький такой брикетик сливочного масла. Доставали картошку, и это было блаженством. Сидели и ели. Хватало на день-два.
Я все-таки сказал бы, что культура может быть и бездуховная. Для себя я бы выстроил такую иерархию: первое – это духовность. Я тут должен сказать... Успехи русской науки – и дореволюционной, и даже после революции – и успехи классической русской литературы – все это все-таки очень сильно связано с духовностью и желанием отгородиться от власти, от бюрократии и от участия в каких-то грязных или сомнительных делах. И есть некоторая широта горизонта. Поэтому мне наряду с русской, российской культурой одинаково – именно одинаково – близка и античная культура, и восточная культура, которую я знаю, – древнеиндийская, древнеиранская – и западные культуры. Когда я впервые оказался в Риме, я ходил сутки; думаю, я спал часа четыре, все остальное время я ходил, потому что для меня это был святой город. Большей святости я не предполагаю. Может, если бы я откликнулся на предложения и посетил Иерусалим, был бы такой же эффект. Но, к сожалению, время для поездок для меня кончилось, кроме двух посещений Италии и одного посещения Парижа, к тому же коротких.
Я вспомнил Вифлеем, вернее, вспомнил о палестинцах, которые там прятались в храме. Я хотел спросить, можно ли спрятаться в церкви от смерти?
Вообще говоря, можно. И такой опыт был. Очень много пострадало во время войны ксендзов, которые укрывали евреев и не только евреев. В такой родовой перспективе, моя дочь побывала в Иерусалиме и обошла все святые места, это было лет семь назад, хотя ей советовали ни в коем случае не ездить в Вифлеем, что это очень опасно. Проcтите, боюсь, я заговорился...
Вопрос был: можно ли спрятаться в церкви от смерти?
Если говорить в очень элементарном плане, можно, хотя и не всегда это зависит от мужества священника. А второе – это то, что когда взрывали храм Христа Спасителя, я относился к этому нейтрально, я знал только, что родители переживают. А меня это непосредственно не затрагивало. Но во время войны проступила память об этом и я что-то для себя написал, какое-то сочинение, касающееся христианства. Это было в провинции, в городе Коврове Владимирской области, где мы были в эвакуации и где все женщины были верующими, все до одной ходили в церковь, хотя каждые два-три года священника забирали и препровождали в Сибирь. Так что какая-то преемственность есть. Это не моя заслуга, это было проступание подсознания. И естественно, я вижу разницу, но не вижу противоречия между культурой и религией, духовностью.
Что вас больше всего интересует в мире и жизни?
Это трудный вопрос. Я бы сказал, что меня больше всего интересует сфера культуры, включая сюда и науку, и живопись, и художественную литературу. К сожалению, у меня большой пробел в музыкальном образовании. Вам покажется это странным, я не берусь объяснить это, но я хорошо представляю себе музыку на уровне идей. Это странное такое заключение. Вообще, есть сфера культуры в широком плане, в широком плане и предметно, и в широком плане, имея в виду разные традиции, которые я никак не могу выделить. По образованию я русист.
Есть ли какие-либо вопросы, к которым вы возвращаетесь снова и снова?
Я бы мог назвать пять-шесть направлений моих занятий, которые я продолжаю и сейчас. Если говорить о сферах, то это языкознание, фольклор, литературоведение, миф и ритуал, история, отчасти философия, семиотика. Вот всем этим я стараюсь заниматься и поэтому сейчас нахожусь в трудной ситуации, поскольку явно мне будет отпущено меньше лет жизни, чем это потребно хотя бы для того, чтобы просто записать, что у меня осталось в рукописях.
А можно идиотский вопрос? Что такое язык?
Во-первых, язык – это самая сильная, самая мощная, самая активная идентификация человека в мире. Пока существует латышский язык, есть латышская культура. Если вы утратите латышский язык, то культура начнет агонизировать, прервутся корни, прервется последовательность культуры, преемственность этой культуры. Самое страшное, что происходило в России, – это то, что язык вырождался, и не потому, что было какое-то влияние западных языков, наоборот, сфера русского языка расширялась, потому что в национальных республиках знание русского языка было необходимо, потому что это было гарантией, что тебя не посадят и т.д., ты входил в национальную элиту. А в России язык был ужасным. Например, в 20-х годах – чему был свидетелем и я – и в 30-х это были сплошные аббревиатуры, сокращения. Это какой-то был дикий... Это все равно что изъясняться только химческими формулами. Это была какая-то дегуманизация языка. Это ощущалось чрезвычайно сильно, и было внутреннее сопротивление. Иногда придешь из школы и что-то скажешь – и вдруг видишь, что родители как бы подтянулись и говорят: «Ты знаешь, мы не хотим слышать этих слов» и т.д.
А как вы еще определите лучше, что такое... Как вы идентифицируете себя как латышей?
Зачем это делать? Зачем себя идентифицировать?
А вы хотите, чтобы было все перепахано и был один сплошной язык?
Нет, конечно.
Нет, естественно, мне кажется, что нельзя отгораживаться китайской стеной от всего остального и язык должен изменяться, но органически. Более того, он должен становиться более гибким, в него входят новые понятия, и никто не будет компьютер или телевизор называть именами из такого исконного русского языка. Кстати, я должен сказать, что в Европе я знаю две страны, которые в национально-культурных традициях пошли в одинаковом направлении. Такой радикальной замене интернациональных...
Венгрия и Исландия...
...и Чехия. В 20-х годах в Чехии люди, не знающие ничего о работах Эндзелина,1 неоднократно ссылались на Эндзелина. Его всегда приводили в пример. Вот у нас сплошь кальки из немецкого языка, много заимствований немецких, а как же в Латвии, где есть единственный человек в мире, который говорит на прусском языке, – Эндзелин? Естественно, что Эндзелин не говорил на прусском языке, как и никто, кроме Палмайтиса, если вам говорит это...
А вы не говорите на прусском?
Нет, это мертвый язык.
Но древнегреческий тоже мертвый, и санскрит тоже...
По последней переписи, 600 с чем-то человек записали в качестве родного языка именно санскрит. А Палмайтис был очень интересным человеком, талантливым полиглотом, знающим массу языков, причем говорящим безукоризненно, и у него чувство совести... Он был студентом Ленинградского университета, фамилия его была Бабков. И у него было чувство такой вины, что он отменил свою фамилию, уехал в Грузию, за один месяц освоил грузинский язык. Известный лингвист грузинский, Конквенидзе, говорил: «Я просто не верю, что он приехал, не знал ни одного слова по-грузински, а через месяц на грузинском говорил без всякого акцента». Потом он уехал в Литву и принял фамилию Палмайтис, притом что грамматически это оформлено как литовская фамилия, а вот корень «палм» – древнеиудейский, так что тут получается человек двух национальностей. А потом он занялся прусским языком и стал Клусисом. И мы с ним сошлись вот на чем. От прусского языка всего осталось два катехизиса, такой расширенный вариант катехизиса переведен, и осталось два словарика. Один маленький, другой более обширный, около 800 слов. Осталась гидронимия и топонимия тех мест, где жили пруссы. И у меня давно была такая идея, что мы обязаны реконструировать по всем этим источникам, во-первых, лексику, во-вторых, грамматику. Собственно, это не трудно, поскольку есть какие-то парадигмы полные, поэтому мы знаем, какой парадигме принадлежит дан-ный глагол или данное существительное, и можем с очень большой степенью вероятности это восстановить. Я поделился идеей реконструкции неопрусского языка с Палмайтисом, и, оказывается, он тоже вынашивал эту мысль. Лет 15–17 назад мы с ним написали на эту тему такую программную статью. Потом Палмайтис стал работать один, и я очень рад, что он это сделал лучше, чем я. Он выпустил ряд книг на новопрусском языке, абсолютно корректных с лингвистической точки зрения. Поразительно. То есть сейчас есть минимальный запас литературы на нoвопрусском языке. Такие же тенденции были в Германии, особенно среди молодежи, притом что много немцев носят прусские фамилии, например, Англазенап. Что такое «глазенап»? Корень, «ап» – это то же самое, что upe, рeка, а «глазен», и в латышском названии – «янтарь», это янтарная речка, впадающая в Балтийское море, где большие были залежи янтаря, которым торговали по великому янтарному пути от Вислы до Рима, до Ирана, именно янтарь балтийский, с этого места. Есть еще янтарные залежи в Северном море, в районе Голландии и северо-западной Германии, но это другой янтарь. Я, к сожалению, потерял нить...
Вы начали рассказывать про прусский язык...
А немцы, опять-таки ссылаясь на свою Nationalschuld, национальную вину, становились пруссами, а в Латвии некоторые латыши записываются в ливы.
Да, есть такие.
Есть. В Германии это более широкое движение. Они записываются в пруссы. И летом они живут в каких-то жилищах, как они представляют себе, как жили пруссы, в палатках, и говорят на новопрусском языке, и выпущен ряд реконструкций новопрусского языка. По сравнению с реконструкцией Палмайтиса это...
Но они заново себе создают новую идентичность...
Ко мне в начале 90-х годов обратились из российской Государственной думы: что делать с Калининградской областью? Это очень странно, потому что я к политике никакого отношения не имею. Я написал, что права на эту территорию имеют, во-первых, литовцы, Малая Литва, восточная часть Восточной Пруссии, во-вторых, немцы, вся западная часть, включая Кёнигсберг, и на южную часть право имеют поляки, которые в свое время – еще в Средние века – совершили большую глупость, когда отказались от Пруссии под предлогом, что такая дикая часть страны им не нужна. После этого началась орденская экспансия в Восточную Пруссию и дальше, и до вас дошла, хотя и другим путем, морским.
Я говорил, что Калининградская область должна быть вот таким очагом без статуса страны. Свободной зоной, как в свое время свободной зоной был Данциг между двумя мировыми войнами. Свободная зона, куда могут приезжать, развиваться все соответствующие культуры, что предполагает возможность взаимопроникновения культур, синтеза. Это уже не от нас зависит. Единственная проблема – это положение русского населения, которое привело эту область в то, что она самая криминальная, самая подверженная алкоголизму, наркотизму и т.д. Ведь Восточная Пруссия в свое время была житницей всей Германии. А сейчас все уничтожено, вся система дренажа, каналов. Более того, когда в 1945 году войска советские заняли Кёнигсберг и обнаружили могилу Канта, они ее вскрыли, обнаружили, что там действительно лежит Кант, и закрыли. А обследование было осуществлено примерно год или полтора назад. Снова вскрыли эту могилу – потому что хотят восстанавливать соответствующий собор – и обнаружили, что Кант лежит без головы. Представляете?! Без черепа.
Скажите, а вам не приходилось пострадать оттого, что вы такой явно пробалтийски настроенный человек?
Ну, прямо скажу, что ездить в Литву и Латвию, когда они входили в состав СССР, нам было стыдно, мы всегда испытывали жгучий стыд. Мы понимали, что в нас должны видеть оккупантов, но мы были слишком привязаны – я, в частности, профессионально, и у меня было много коллег и просто друзей и в Латвии, и особенно в Литве. Литва интересовала больше в том плане, что литовский язык в большинстве своих фрагментов более архаичен, чем латышский. Но Латвия меня тоже интересовала, и с Латвией, я помню, в 30-е годы было гораздо больше связей, было очень много латышей: во-первых, латышских стрелков, красных, во-вторых, было немало людей, которые были связаны с Коминтерном. В нашей квартире жил латыш, в нашем доме жил латыш, которого считали помешанным, потому что он круглый год, в 6 часов утра, независимо от того, темно ли это зимой или светло летом, выходил в одних трусиках и делал гимнастику. Потом он исчез. Вообще, вдруг латыши стали исчезать, особенно те, которые были связаны с Лубянкой. Я помню, в Москве до 1936 года продавался рижский хлеб, который все очень любили, в Москве продавались миноги, которые приходили из Латвии, и потом они исчезли. Сейчас они снова появились в Москве, и опять-таки от вас.
А правда, что Волга – это латышское название?
Вы знаете, более точно сказать, балтийское название. Ведь Волга не имела единого названия вплоть до начала XVIII века. Каждый народ на Волге называл ее по-разному. Словом «Волга» называлось только верховье, примерно 200 км от истоков и дальше. Но балты, которые жили в этом месте, знали, что это очень длинная река. Сколько ни проезжай по ней, она бесконечная, она не кончается, по ней уже опасно было дальше ехать. И первоначально она называлась – это форма в реконструкции – Илга, долгая. Теперь как объяснить «Илга» и «Волга»? Вот это «и» начальное – оно в русском языке давало то, что обозначается мягким знаком. Мягкий знак никогда не бывает в начале слова, и поэтому появлялась протеза – звук «в» – «вилга», «в» твердое. Вот этот мягкий знак превращался в твердый знак. Твердый знак уже по законам русского языка и вообще других славянских языков прояснялся в звук «о» – «Волга». И в верховьях Волги есть несколько десятков абсолютно точных гидронимических балтизмов. То есть больше, чем русизмов, именно гидронимов. Но есть и некоторые топонимы – названия поселений по названиям рек. Так что это балтийское. Я думаю, что если говорить реально, то больше всего шансов на то, что это такой латгальско-кривичский элемент. Кривичи еще не стали славянами, они вышли из Нижней Вислы как балты, а пока они дошли до Волги, они славянизировались. Славянизация началась уже примерно, где у вас проходит восточная граница Латгалии и в Псковской области, отчасти Псков, в сторону Новгорода.
Видите ли вы смысл – и если да, то какой – в борьбе с языком?
Я считаю, что язык может изменяться эволюционно, и это естественно. Во время этой эволюции он теряет часть старого лексического состава, а отчасти вводит новый состав. Но важно, чтобы это было органическое явление.
А если говорить о борьбе с языком как с готовыми мыслительными формами?
Если брать такой аспект, что в языке есть творческое начало... Надеюсь, что вы не протестуете против того, чтобы язык все-таки оставался... Я хорошо знаю возражения против этого философские, другие, но тем не менее я не вижу здесь проблемы при презумпции того, что в языке есть спонтанное, не зависящее от нашего желания. Мы какие-то слова узнаем и употребляем их, а какие-то... Ну я вам говорю, компьютер или телевизор так и останутся в русском языке. И очень хорошо, что так это есть. Но вместе с тем есть и какой-то сор в языке, есть желание казаться оригинальным и современным и говорить по-современному. Иногда это даже сказывается на артикуляции, как будто у них рот не раскрывается. А сфера творческого языка... Естественно, есть люди талантливые в звуковом смысле, есть люди, талантливо говорящие по-русски. А есть люди, которые говорят на среднем, обывательском уровне. Нужны тексты, прежде всего тексты художественной литературы. Например, для меня русский язык существует, начиная с первых его памятников, самых ранних, то есть в течение тысячелетия. Нелингвист абсолютно не обязан его знать, а я знаю. Для меня весь русский язык живой.
1Янис Эндзелинс (1873–1961) – латышский лингвист, исследователь балтийских языков, специалист по сравнительному и историческому языко-знанию,
автор латышской грамматики, словаря латышского языка, исследования латышской фонетики. В 1943 году была опубликована его работа ≪Древнепрусский язык≫.