Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
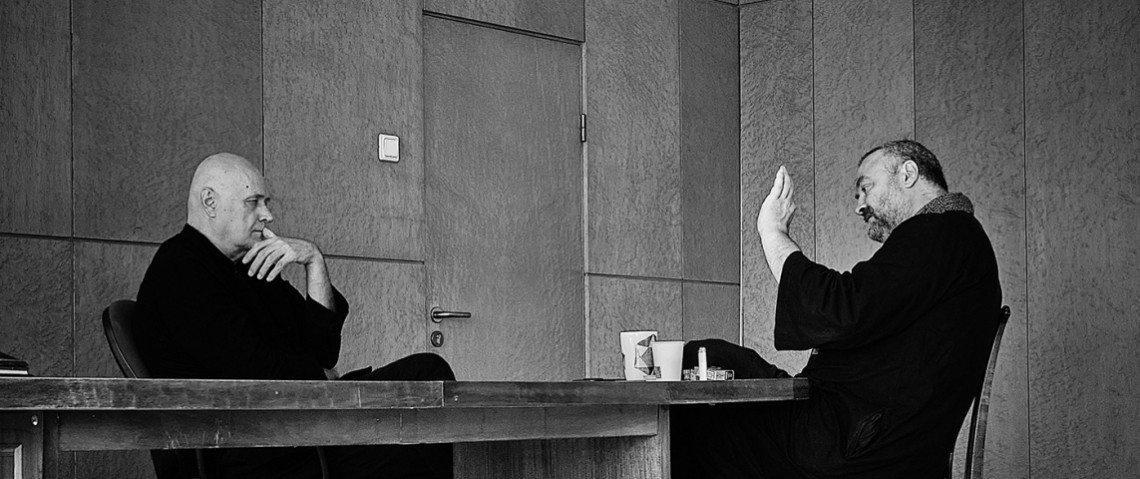
Улдис Тиронс: Мы находимся в кабинете первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Латвии.
Арнис Ритупс: Да. Кто бы мог этого ожидать, верно?
Тиронс: В доме, построенном в конце 70-х годов.
Ритупс: В 1974 году.
Тиронс: Да. И последние три года простоявшем пустым, как этакий призрак. И вот теперь, в 2023 году, ты переименовал этот дом в Дом дураков, или ддом.
Ритупс: Да.
Тиронс: Вообще-то тебя обычно знают как образованного, умного, остроумного и весьма энергичного человека, способного соединить мышление с действием. А теперь ты называешь себя ду--раком.
Ритупс: Гм.
Тиронс: Может быть, даже самым главным дураком.
Ритупс: Нет-нет, я всего лишь один из семи самых больших рижских дураков.
Тиронс: И как же эта самоидентификация согласуется с вышеперечисленными представлениями о тебе?
Ритупс: Сам я в этих представлениях себя не узнаю. В марте этого года я осознанно решил на год побыть дураком: это было связано с нашим разговором о том, что мы могли бы приблизиться к 30-летию журнала Rīgas Laiks двумя путями. Ты сохраняешь ясный ум и строгий вкус, а я окунаюсь в пучины безумия. И одной из первых вещей, которую я там нашел, стал образ дурака, в различных литературных сочинениях, возможно, более известный как шут. В образе дурака я усматриваю одну из возможностей взглянуть на все со стороны. Любая социальная роль, сыгранная или найденная мной до сих пор, все же была встроена внутрь какой-то структуры или системы. И как этот образ сочетается с описанным тобой героем, я толком не знаю. Скорее, это я тебя могу спросить: а у тебя эти вещи как-то клеятся вместе?
Тиронс: У меня они толком не клеятся. К тому же ты нередко не только сам себя объявляешь одним из, как ты выражаешься, семи самых больших рижских дураков, но и требуешь от других быть дураками. Например, не приглашая в свое пространство тех, кто сам не дурак…
Ритупс: Да.
Тиронс: …и тому подобное. Это побудило меня примерить эту маску или этот образ на себя, и мне это не удалось. Мне кажется, что, нося эту маску, я занимаюсь не тем, чем мне следовало бы заниматься, а какой-то… театрализацией своей персоны. Но – и я это тебе уже говорил – я не слишком интересуюсь собственной персоной как реальным существом, если можно так сказать.
Ритупс: Когда ты говоришь, что не интересуешься собственной персоной, я могу добавить, что это понятие не что иное, как «маска, сквозь которую звучит голос». Personare. Это маска, которую в театре надевали актеры.
Тиронс: Персона?
Ритупс: Да. Это маска. И когда ты говоришь, что ты не интересуешься своей персоной, ты на самом деле говоришь, что не интересуешься своей маской, то есть, другими словами, ты ее просто не видишь. Ты не видишь, что ты носишь маску, или тебе не кажется важным, что ты ее носишь. Мне тоже долго казалось, что это неважно: могу надеть маску, какая понадобится. Но теперь я пытаюсь выбирать маску сознательно и с нею играть, исследовать ее возможности, силу и слабость по отношению к системе в целом.
Тиронс: Но если допустить, что человек носит маску всегда, не значит ли это, что под твоей сознательно выбранной маской есть еще одна?
Ритупс: Мне снять эту? И показать какую-то другую?
Тиронс: Да.
Ритупс: У меня их несколько, да. И я с ними играю.
Лет 35 назад я видел в городе некоего типа, который ходил в длинном черном пальто, всегда с немного грустным выражением лица, и было известно, что этот человек читает Ницше и живет, обуреваемый экзистенциальными вопросами.
Тиронс: (Смеется.)
Ритупс: Но прошло совсем немного времени, и на кухне у Харальда мы с этим человеком уже говорили о Вит-генштейне, и оказалось, что меня и тебя – того самого человека в черном пальто – интересовали схожие вещи и вопросы. Это заставляет меня думать, что тебе знаком театр масок, знакомы карнавальные движения.
Тиронс: Это правда, я действительно носил черное пальто, шляпу и экзистенциальную грусть, но важнее, на мой взгляд, все же было то, что не был--о связано ни с какой грустью: мы могли беседовать, говорить, если можно так сказать, о деле. А теперь в отношении себя – возможно, под влиянием Мераба – я бы сказал, что быть сравнительно незаметным и не носить шутовской колпак выгоднее: это дает большую свободу.
Ритупс: Лет за 2300 до Мераба это со--ветовал и Эпикур: «Живи незаметно!» – λάθε βιώσας.
Это был его совет, как сохранять внутренний покой, как избегать внешних раздражителей. Это, на мой взгляд, весьма возможная позиция, но с такой позиции трудно включиться в какое бы то ни было социальное действие, а издание журнала – это вполне социальное действие. И это не очень незаметная жизнь, когда вот уже 30 лет выходит журнал Rīgas Laiks. Разве ты не усматриваешь в нем свою социальную активность?
Тиронс: Нет, это наверняка социальная активность, как ты это называешь… Но мне всегда казалось, что журнал можно издавать, как бы заключая самого себя в скобки. Мо-жет, конечно, я говорю это, следуя Флоберу, который в своей прозе делал все возможное, чтобы себя из нее убрать. И я мог бы сказать, что для меня идеальным был бы такой Rīgas Laiks, из которого я сам себя в максимально возможной степени удалил.
Ритупс: В случае Флобера убирание себя из каждой фразы превращается в растворение себя по всему его тексту.
Тиронс: Да, можно так сказать.
Ритупс: Он убирает себя так, что становится всем. И думая, что это возможно – себя убрать, – ты просто не замечаешь, в какой мере ты себя туда вложил: твой выбор, твой вкус, твои суждения, твое понимание пронизывают Rīgas Laiks вот уже десятилетия. И воображаемый, идеальный журнал – это нереальный журнал. До-пускаю, что где-то такой и есть, однако Rīgas Laiks не идеальный журнал.
Тиронс: Но это же не означает, что…
Ритупс: …к этому не нужно стремиться.
Тиронс: Именно.
Ритупс: Да, ты смело можешь к этому стремиться, хотя я полагаю, что тут есть элемент самообмана, и в твоей ссылке на Флобера тоже. Флобер надувается до огромного размера за счет того, что он себя убирает, и поэтому у него учится Пруст, у него учится Джойс, у него учатся другие. Ибо он является… ну как, он является создателем того мира.
Тиронс: Видишь ли… Будь он создателем хоть десяти миллионов миров, в каждом из них будет нечто большее, чем Флобер. И я никогда не скажу, что Флобер, каким мы его знаем из биогра-фии или переписки с Луизой Коле, заслоняет мир, построенный им как писателем. То же самое касается и Пруста, для которого текст, который он стро-ит, служит залогом его бессмертия.
Ритупс: Залогом?
Тиронс: Да. Можно сказать, что он достигает бессмертия в тексте, но вовсе не в том тупом значении, что «после моей смерти меня будут помнить», а в прямом смысле: он превращается в этот текст как в такое сознание, которое бессмертно, которое продолжается.
Ритупс: Согласен. Но ведь ты говоришь то же самое: он превращается в весь этот текст, вынимая себя из скобок или помещая себя в скобки. Не случайно 13 лет назад, когда я перед камерами задавал людям вопрос, являются ли для вас Тиронс и Rīgas Laiks синонимами, нашлось несколько человек, сказавших: «А как же иначе, конечно!» И это та самая история о том, как Флобер превращается в свой роман, а Тиронс превращается в журнал.
Тиронс: Я могу лишь добавить, возвращаясь к кухне Харальда Элцериса, что мне кажется важнее достичь состояния тех разговоров, нежели делать что-то со своей личностью.
Ритупс: Понимаю, у меня по большей части в жизни было именно так же.
Тиронс: Да. Но скажи: это твое фрагментированное, разнообразное поведение, почти непрерывный перформанс с ношением той или иной маски, понятно ли оно вне упомянутой тобой цели – влиять на систему, общество? Есть ли в этой деятельности, в этом перформировании себя какая-то выгода и… какая-то выгода для тебя лично? Я спрашиваю еще и потому, что сам люблю создавать для себя отмежевание, тишину и одиночество. Ведь разговоры и возня с большим количеством людей мне толком ничего не дают; в таком состоянии я не способен обеспечить постоянную рефлексию о своем мышлении.
Ритупс: Для меня поиск выгоды…
Тиронс: Выгоды – в хорошем смысле.
Ритупс: Да хоть в наилучшем. Это толкает нас в какой-то очень специфический, чуть ли не прагматический жанр, где нужно думать о том, почему что-то делается или что-то не делается. Ты говоришь, что гораздо больше приобрел в одиночестве, но если разобрать это приобретение, оно может оказаться просто приходом к каким-то состояниям сознания, я не знаю…
Тиронс: К каким-то мыслям.
Ритупс: Тогда я мог бы тебя спросить, к каким таким мыслям ты в одиночестве пришел, что они тебе кажутся ценнее участия в разговорах с другими, или какой-то интеракции, или… как это называется на латышском? Тогда как мне кажется плодотворным подумать о возможностях трансформации – о таких, когда, например, Тиронс превращается в журнал, а журнал, например, превращается в дом. Как это вообще возможно? И даже не нужно читать «Метаморфозы» Овидия, чтобы понять, что вещи превращаются всякими чудесными способами. Не нужно читать Кафку, чтобы утром проснуться жуком. Это просто все время происходит, мы – я и ты – находимся в непрерывном трансформативном процессе, хотим мы того или нет.
Тиронс: Ну хорошо, ты мне предлагаешь превратиться в журнал, а журналу предлагаешь превратиться в дом дураков или корабль дураков. В кого ты, Арнис, собираешься превратиться?
Ритупс: Я считаю, что уже превратился в дурака. Во всяком случае, на какое-то время. Иногда мне на этом уровне удержаться не удается, и тогда я огорчаюсь. За последние полгода мне пришлось сыграть несколько ролей, но роль безумца… ну я бы сказал, труднее всего. Ведь для того, чтобы так действовать, в какой-то момент надо поверить в пронизывающее меня безумие, но, поверив в это, все равно надо уметь вечером эту маску снять. Это рискованная игра уже на грани… необратимого безумия. Потому что эти роли и маски, как и куклы, уже нечто вокруг себя создают – и не только то, что ты сам туда вложил. Они создают там и то, чем сами являются. Например, безумец, или пират из будущего, или анархический хулиган, или любая другая из используемых мною масок – это… Поскольку никаких курсов актерского мастерства я не осваивал, я рискую собой.
Я тебе как-то отправил одну фразу из известного примечания Декарта перед его выходом в парижский свет: Larvatus prodeo – «Выступаю в маске». Ему не особо нравилась парижская светская жизнь; в письмах он пишет, что к нему относились как к цирковому слону. Но прикрытие индивидуального сознания или мышления маской – обычной или необычной, конформистской или эксцентричной – это, на мой взгляд, выбор, который приходится сделать. И у него есть последствия. Например, этот твой образ одинокого мыслителя я всячески поддерживаю, и не случайно я пригласил тебя посидеть в этом кабинете, наименее доступном. Ибо кто осмелится прийти к тебе, генеральному секретарю Дома дураков?
Тиронс: Ты подыгрываешь.
Ритупс: В этом отношении я подыгрываю твоему образу одинокого мыслителя, ничем особо не интересующегося, кроме собственных мыслей, ощущений и переживаний. Вопрос в том… Наши места в этом доме диаметрально противоположны. Я нахожусь на первом этаже в будке вахтера – ну вообще отвечаю за безопасность на входе. А ты далеко наверху… близко к облакам, и можешь наблюдать панораму Риги, можешь вжиться в роль правителя Риги или хотя бы в роль правителя себя самого: ты правишь сам собой. На горе Олимп.
Тиронс: Полагаю, что непременно стоит обсудить не только личность-маску, но и журнал. Может ли у журнала быть маска, вот в чем вопрос.
Ритупс: Ну у журнала наверняка есть какой-то образ; возможно, он даже не создавался сознательно, он просто таким вырос. Может, конечно, изначально при его создании у тебя в голове был, скажем, журнал Stern или что-то вроде того. Возможно даже, что ты думал и о какой-то социальной функции, которую этот журнал мог бы выполнять. Как бы то ни было, но пока есть хоть несколько человек, его читающих в библиотеках или в ванных, он выполняет и некоторую социальную функцию. Что-то делает с людьми, его читающими. Если я правильно понимаю, тебе кажется, что это тебя не касается: ты делаешь свое дело, а каждый отдельный читатель делает свое. Мне после прихода в журнал в конце 2010 года всегда казалось, что журнал может быть чем-то бóльшим, чем он является, чем он был.
Тиронс: В каком отношении бóльшим?
Ритупс: В том отношении, что журнал может быть самыми разными вещами и сознательнее относиться к тому, что он делает со своими читателями. Не для того, чтобы им угодить, а чтобы понять, кто они и что они делают.
Теперь осмелюсь задать тебе вопрос: что, по-твоему, журнал Rīgas Laiks, если рассматривать его как растянутое во времени целое, как некий единый организм, что он делает в латышском языке и, так сказать, в латышском обществе?
Тиронс: Надо добавить, что после пожелания Пятигорского и твоего подключения он выходит еще и на русском, а пара номеров – и на английском, из которых десяток экземпляров даже был продан в изумительном нью-йоркском книжном магазине Strand.
Ритупс: Где журналы не продаются в принципе.
Тиронс: Да. Но я понимаю твой вопрос… Не знаю, мне всегда было приятно, что Rīgas Laiks сейчас читают дети тех людей, которые начали читать этот журнал еще в девяностые. Журнал выходит уже фактически на протяжении двух поколений. И этот трогательный случай, когда, по-моему, в Айзпуте был выписан всего один экземпляр Rīgas Laiks и читал его, наверное, лишь один человек, девушка, позднее сказавшая, что не уехала из Латвии только потому, что есть Rīgas Laiks. Но мне действительно кажется, что это личное дело каждого читателя, что с ним происходит при чтении этого журнала. И странно, у меня тоже всегда было ощущение, что Rīgas Laiks – это нечто большее, я сейчас не имею в виду только что сказанное тобой. Уже говорилось, что журнал с самого начала создавали не журналисты, а философы или близко к тому – Инесе, Илмар, Иева… И у каждого из них всегда было еще и свое параллельное занятие; это можно видеть и сейчас, когда они уже так тесно не связаны с Rīgas Laiks: Инесе занимается детскими книгами и поэзией, Иева в громадном объеме переводами и литературой, Илмар тоже поэзией и еще кое-чем… И, говоря о себе, мне тоже всегда казалось: журнал – это одно, а я – нечто совсем другое. Потому-то я еще в самом начале, в 1996 году, уехал в Тибет и чуть не отбросил там коньки.
Ритупс: Ну по меньшей мере зрение на какой-то миг ты потерял.
Тиронс: По меньшей мере зрения лишился на какой-то миг.
Ритупс: Но из сказанного тобой я так и не понял: журнал больше, чем что?
Тиронс: Больше…
Ритупс: Больше, чем журнал? Больше, чем ты?
Тиронс: Нет, журнал больше, чем просто «журнал». Помню, когда мы в 2000 году перешли к черно-белой версии, он сильно изменился, поскольку мы решили издавать его таким, каким мы хотим, а не таким, каким его мог бы хотеть видеть воображаемый абстрактный читатель. И тогда у меня был своего рода манифест с фразой из Ницше: как философствовать молотом; в моем случае – как философствовать журналом.
Ритупс: Подход римлян.
Тиронс: Как бы то ни было, есть люди, с некоторых пор называющие Rīgas Laiks философским журналом. Хотя он таковым, строго говоря, конечно же, не является. Но какая-то философская маска у него, пожалуй, есть. Мне бы хотелось, чтобы журнал – то, что в нем написано, и то, как это написано, как журнал составлен… – чтобы это создавало мир, в котором есть некая… в котором можно что-то понять.
Ритупс: В случае Rīgas Laiks «журнал» – очень смешное обозначение, поскольку происходит оно от французского слова jour, день, то есть нечто такое, что проходит, что приходит, а потом исчезает как тень и уже не актуально. Мне же, напротив, доводилось видеть квартиры, где стоят полки с журналом Rīgas Laiks, словно он не стареет, словно в нем есть некая ценность, которую надо передать будущим поколениям.
Тиронс: Как в свое время люди со времен Первой независимости1 хранили на чердаке стопки журнала Atpūta2.
Ритупс: Ну мне Atpūta попадался редко, но помню, что первым журналом, который я сохранил, был Avots3, апотом Grāmata4, причем с обоими ты был как-то связан.
Тиронс: С Avots меньше.
Ритупс: Меньше, но где-то там рядом ты крутился. И я помню этот просветительский импульс, для меня как подростка от этих журналов исходивший, – и от Avots, и уже в бытность мою в советской армии от Grāmata. Ты когда-нибудь задумывался о просветительском потенциале Rīgas Laiks? Если он просветительский, то к чему побуждает? Чему учит?
Тиронс: Иногда до меня доходят в ка-честве фидбэка сообщения, что учителя используют или вынуждены использовать статьи из Rīgas Laiks по той причине, что других статей на ту или иную тему, о том или ином персонаже на латышском просто нет. Возможно, сейчас с развитием интернета ситуация изменилась, хотя и в Сети, разумеется, кроме как в Rīgas Laiks, трудно найти тексты такого качества, как, например, статья Агнесе Гайле о Флобере или статья Инесе Зандере о Зимней войне в Финляндии. А в Rīgas Laiks хороших статей было довольно много. Но журнал, вне всякого сомнения, со временем менялся. На мой взгляд, усилилась одна особенность Rīgas Laiks... Я охарактеризую это примером из Мамардашвили. Он сказал, что читать начал рано, когда жил в селении неподалеку от Гори, и читал он советские газеты. Речь идет о 30-х годах прошлого века. И он в тех газетах не понимал почти ни слова, но одно он понял сразу: что это вранье от первой до последней строчки. Так вот, у меня такое ощущение, что Rīgas Laiks старается внедрить ту эстетическую оптику, которая позволяет отличить ложь от правды. И сейчас, когда манипуляции с информацией, изобра-жениями, текстами достигли небывалого уровня, это видится крайне важ--
ным.
Ритупс: Да, однажды я уже вспоми-нал случай, когда представитель Окс-фордского университета обратился к выпускникам с риторическим вопросом: «Зачем – если большинство из вас не станут ни учеными, ни государственными мужами – зачем же мы вели вас все эти годы сквозь разные, причем столь трудные, тексты?» И тут же ответил: «Чтобы вы научились распознавать гнилые речи, to recognise a rotten speech». Да, ты схожим образом описываешь позицию журнала. Тогда можно сказать, что Rīgas Laiks в Латвии годами занимался тем же, чем занимается Оксфордский университет – во всяком случае, занимался во времена Британской империи XIX века.
Тиронс: Чудесно. Могу лишь добавить касательно интервью в Rīgas Laiks, что там прослеживаются две тенденции. Часто это интервью с людь-ми, способными читателя просветить, рассказать что-то неизвестное и интересное. Скажем, я многое узнал о волках из интервью с Ясоном Бадридзе. А вторая тенденция такова, что интервьюеры вслушиваются в слова интервьюируемого и часто его подлавливают, когда что-то не так, как этот человек говорит, когда есть в этом какое-то лукавство. И то же самое бывает и с текстами. Мне, например, довольно легко, бросив взгляд на текст, понять, во-первых, стоит ли вообще его читать, а во-вторых, о каком авторе примерно идет речь, интересный это человек или нет, интересно ли с ним было бы поговорить журналу и так далее.
Ритупс: Понимаю. И? Из этого сле-дует – что?
Тиронс: Из этого следует, что в тексте и в том, что человек говорит, есть ключ к пониманию чего-то – в нем есть больше, чем этот текст может рассказать, если мы говорим о его просвещающей или информативной функции…
Когда я сегодня ехал в Ригу, я представлял себе, какими могут быть вопросы… И подумал, что ты мог бы меня спросить, чему я научился у Ме-раба и Пятигорского.
Ритупс: Допустим, что я уже спросил.
Тиронс: Я хотел бы начать с Пяти-горского, потому что это по-своему отвечает на вопрос о просвещении. И придуманный мной в машине ответ таков: во всем есть смысл, только я его знать не могу, он непостижим.
Ритупс: Вспоминая поздравление Пя-тигорского с твоим 50-летием, когда он говорил про вторую сторону, где есть и фиолетовые обезьяны, и…
Тиронс: Ученые в таких высоких…
Ритупс: …колпаках. И не будь этой второй стороны, мы по эту сторону передохли бы от скуки. Это, если я правильно понимаю, примерно то, о чем ты говоришь.
Тиронс: Не совсем. Это было в Ку---
рукшетре…
Ритупс: Да, это была первая ассоциация, что ты рассказываешь о… поле дхармы.
Тиронс: И у этого поля, где состоялась жуткая битва между Кауравами и Пандавами, есть и другое значение, вам неизвестное.
Ритупс: Но известное тому, кто знает дхарму.
Тиронс: Известное тому, кто знает дхарму. И именно поэтому поле Куру одновременно является и полем дхармы. По аналогии: это место, какая-то смешная Рига или Латвия, является не только тем, чем считается, но и миром дхармы, и журнал тоже не только то, что мы в нем можем прочесть, но и нечто большее, и с этой точки зрения он неведом и нам самим.
Ритупс: Это можно было бы считать твоей попыткой мифологизировать журнал…
Тиронс: Можно было бы.
Ритупс: …наделить его какими-то сверхъестественными аспектами или функциями. Или, упомянув поле дхармы, ты имеешь в виду, что журнал выполняет дхармическую задачу? По-тому что социально и в рамках рынка его существование кажется настолько странным, настолько висящим на волоске и шатким большую часть времени, что…
Тиронс: Здесь можно было бы перескочить к другой мифологии, сказав, что вовсе не мы этот волосок подвесили…
Ритупс: Ибо это не твой волос и это не мой волос.
Тиронс: И, соответственно, не нам суждено его перерубить или перере-зать. С этой точки зрения журналу Rīgas Laiks суждено кончиться тогда, когда он перестанет выполнять свою дхармическую функцию.
Ритупс: И случится это само по себе.
Тиронс: В своем роде само по себе, хотя, разумеется, кажется, что само по себе ничто не происходит, так как нужна причина какая-то…
Ритупс: Причина, очевидно, в грибах: до недавних пор о грибах тоже думали, что они возникают из ничего. Но как грибы не появляются из ничего, так и про журнал можно сказать, что у него есть незримая грибница, где-то по ту сторону. И благодаря этому всякие случайности, благосклонность людей, необычные случаи и удерживают этот волос.
Тиронс: Да, мне тоже кажется, что Rīgas Laiks держат фиолетовые обезьяны и ученые в конусовидных колпаках.
Ритупс: Тут мы с тобой единодушны. И в этом году я пытаюсь это каким-то еще другим образом продемонстрировать. Себе в первую очередь.
Тиронс: Хорошо, пусть у Rīgas Laiks «ноги растут» с другой стороны, но в каком смысле можно назвать журнал ддомом?
Ритупс: Сейчас ни в каком, можно лишь сказать, что такое отношение могло бы превратиться еще в нечто иное… то есть не только превратиться в регулярно издаваемый журнал, но и в нечто иное – ну, не знаю, в социальное движение, в идеологию, в школу, в ддом, которого еще нет, он еще только на стадии возведения. Но даже допущение, что журнал мог бы превратиться в дом, не означает, что нечто из журнала исчезнет, как ничто не исчезло из тебя из-за того, что ты влился в журнал или создал его форму.
Тиронс: Мы снова замкнули круг и вернулись в ту ситуацию, когда я просил тебя определить, как ты понимаешь дурака. И если Rīgas Laiks мог бы превратиться в Дом дураков, то ему, пожалуй, следовало бы принять что-то от трикстерства, от шутовства, от высмеивания, от позиции, позволяющей ему занять другое положение в социальной среде, отличное от нынешнего. И тогда у него, возможно, были бы иного рода критерии в отношении текста и, возможно, статьи тоже другие.
Ритупс: Не спеши. Попробуем так: создание некоего беспокойства в людях – ну такого, когда или все не так, как выглядит, или все не так просто, как кажется, что может быть и иначе – создание такого беспокойства в читателях заметно в тех реакциях, что я слышал от читателей журнала. Итак, Rīgas Laiks вызывает беспокойство, временами вызывает смех, временами – редко – вызывает возмущение, постоянно вызывает трудности с пониманием и прочтением, обозначая границы читательских знаний и понимания. Почему же это создание беспокойства не может перетечь в еще какое-то действие, в другое?
Тиронс: Лет десять назад ты тоже хотел расширить деятельность журнала. И в ту пору у тебя была идея, что стоящими людьми являются люди, что-то умеющие.
Ритупс: Или понимающие.
Тиронс: А теперь мы обратились к людям, по большей части собирающим грибы, а не читающим журнал, но – неважно.
Ритупс: Вообще-то они могли бы читать… Только латыши и грибы собирают, и Rīgas Laiks читают5.
Тиронс: Да, это очень хороший девиз. В тот раз вопрос «Что ты умеешь?» ты задал и мне. Я подумал, что понимаю, что значит писать и читать, и мы создали так называемые курсы creative writing, вроде бы связанные с полученными в журнале навыками, но проходившие вне самого журнала. Если к этим навыкам отнести еще и редактирование, то это все же очень узкие навыки, все-таки так или иначе вращающиеся вокруг журнала. И если сейчас мне пришлось бы выйти за пределы этой довольно ограниченной сферы, например, как-то практиковать это «создание беспокойства» вне журнала, это потребовало бы от меня иного рода усилий, мне пришлось бы покинуть сравнительно надежную территорию журнала и, используя твою же метафору, позволить ветру листать мои страницы.
Ритупс: Ветер листает, и я время от времени вижу что-то другое.
Тиронс: Да. Но выйти туда, вовне, трудно – возможно, и в дхармическом смысле.
Ритупс: Один из образов дурака на картах Таро: шут подошел к краю скалы, и следующий шаг будет туда, где нет опоры. И я полагаю, что я тот, кто эти границы проверяет в большей мере, чем ты, но нам как-то – во всяком случае, последние полтора десятка лет – удавалось два этих отношения соединять в единое целое.
До сих пор мне казалось, что этот наш разный подход и к разговорам, и к тому, что появляется как интервью в журнале, и вообще наши различия – все это шло на пользу целому. Но, похоже, мы с журналом стоим на распутье, когда какие-то изменения представляются неизбежными, и в свете этой нашей совместимости я и смотрю на возможность или невозможность того, что журнал может хоть на время превратиться в дом, – в дом как иного рода тревожащий или свербящий фактор. Для меня это вопрос открытый. Каков твой временный ответ на этот узел?
Тиронс: Помню, как я переживал расставание, сидел в кафе, пил водку и на листочке писал, что в этом событии с минусом, а что с плюсом. В своем роде так же можно относиться и к Rīgas Laiks: какие вещи со знаком плюс, какие еще нет, но могли бы быть и что было бы, если бы их не было. Но есть что-то, что еще не случилось, – это присутствие неведомого будущего, и оно смущает. Но, как сказал бы Мамардашвили, важнее всего и ближе всего человеку то, что в нем неизвестно, тьма в нем. Это то, от чего он никогда не откажется, никому не отдаст.
Ритупс: Для меня тоже последние полтора десятка лет важна была тема незнания. В конце концов я в своем желании беседовать с интереснейшими учеными мира стремлюсь, во-первых, в себе и, во-вторых, возможно, еще в ком-то покопаться и выдрать корни той идеологии сайентизма, которая допускает, что наука способна ответить на все…
Тиронс: Развиваясь, ответит на все вопросы.
Ритупс: Да, осталось немножечко до-работать. Но мне такое отношение кажется враньем. И, во-вторых, в разговорах с серьезными учеными, работающими не на уровне научно-популярных пересказов, а там, где действительно рождается научная мысль, подтвердилось, что они находятся в состоянии очень интенсивного незнания, они очень хорошо сознают границы незнания и то, в сколь малой степени научными моделями можно объяснить важные вещи. Как в нашем очень коротком разговоре сказал Ноам Чомски: если интересуют важные вещи, наука тут не нужна, тут нужно читать литературу или делать что-то другое. И мне было очень важно предложить и другим разглядеть широту и глубину границ своего незнания. Потому что эту гордую, самоуверенную работу разума, которую он ведет где-то с конца XVIII века, на мой взгляд, не преодолеть, если обращаться только к симптомам: надо менять само отношение и понимание веса, значения знаний и то, в какой мере человек в мире знающ, в какой мере он этот мир постиг. Возврат к более скромной, приниженной, не столь самоуверенной позиции казался мне важным мотивом для разговора с выдающимися учеными. И вот уже отсюда органично вырастает роль дурака: это еще один инструмент для демонстрации границ человеческого незнания.
Тиронс: Знаешь, меня интересует именно это, если можно так сказать, практикование незнания. Я даже мог бы сказать, что таким образом пытаюсь понять приписываемые Сократу слова: «Я знаю, что ничего не знаю». То есть знать свое незнание очень трудно, потому что возникает нечто столь странное, как известное неизвестное. Мне кажется, что и наука должна бы считаться с этим принципиально неизвестным как с частью своих знаний.
Ритупс: В последние 150 лет я заметил лишь несколько примеров, когда люди пытались осознать границы науки и незнания. Но это исключения, и в философии науки это тоже крайне маргинальная проблема.
Тиронс: Таким же образом я понимаю, точнее, пытаюсь понять высказывание Витгенштейна: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать». Не так, что до какого-то предела я говорю, а дальше помалкиваю, так как сказать об этом нечего, нет: молчание – это не замалчивание, а определенное действие, по интенциональности и весу примерно равное высказыванию… Нет, молчание все же весомее, то есть молчать о боге всегда будет весомее, чем о боге говорить. Но молчать вовсе не потому, что я не могу о боге поговорить, а потому, что я умею о боге молчать. И это будет некой высшей степенью высказывания.
Ритупс: Наверняка могут быть и другие формы, кроме как молчать.
Тиронс: Не только. Можно бегать о боге или еще что-нибудь в этом роде.
Ритупс: Ну можно еще… например, обращаться к богу, можно выпасть и из первого, и из второго…
Тиронс: Можно ругать, например.
Ритупс: Некоторые так и делают. Проклинают бога или славят. Я бы сказал, что есть и другие возможности. Но я хотел бы вернуться к тому, о чем ты говоришь: тебе кажется, что я пытаюсь подловить собеседников на лжи.
Тиронс: Да. Или на недумании.
Ритупс: Я назвал бы это самообманом, вытекающим из того, что ты, грубо говоря, воображаешь, что знаешь то, чего не знаешь. И это, на мой взгляд, весьма…
Тиронс: …сократовская позиция…
Ритупс: Согласен. И Сократ – так его, во всяком случае, описывают в позднейшей литературе и исторической традиции – во многих смыслах вел себя как юродивый. Последователями Сократа себя считали и первые шуты, киники, мастурбировавшие на рынке, пившие из горсти и всячески нарушавшие правила афинского общества. И одним из признаков принадлежности к этой сократовской шутовской традиции могло бы быть стремление показать, что человек воображает, что знает то, чего он не знает, понимает то, чего не понимает (а в этой заносчивой позиции, на мой взгляд, один из самых разрушительных корней краха цивилизации). Вопрос: где противоядие от такого самообмана сознания? Универсального противоядия нет. Надо пытаться искоренить в себе такого рода болтовню. Это нелегко. Когда тебе нужно кого-то в чем-то убедить, проще всего принять позу знатока. А человеку, хоть немного читавшему книги, очень легко в разных вопросах принять позу знатока. Знатока Флобера, кино, не знаю, Декарта – без разницы.
Тиронс: На кого ты намекаешь?
Ритупс: Ни на кого, просто ближайшие примеры. Сегодня в мире нет места, откуда можно услышать голос шута – чтобы шут говорил, а кто-то к нему прислушивался. Я осмеливаюсь крупными мазками говорить о западной цивилизации в целом. И если такое место, откуда можно критически оспорить действие системы, указать точки самообмана… если такое место не возникает, если, так сказать, голосу дурака больше негде быть, то такая система обречена на самоуничтожение.
Тиронс: Но, может быть, этот путь не столько педагогичен, сколько самопедагогичен. В том плане, что надо эту заносчивость разглядеть в самом себе и попытаться что-то с собой сделать.
Ритупс: Во-первых, ее в принципе можно начать замечать только тогда, когда ты ее замечаешь в себе.
Тиронс: Да. А ты сам замечал в себе такую проблему?
Ритупс: Я думаю… До сих пор думал, что заметно это стало где-то в возрасте 26 лет, когда я, кажется, пользуясь терминологией «Философии одного переулка», выпал из состояния объективного идиота и впал в состояние идиота субъективного. В котором и пребываю по сей день. В элементарном значении субъективный идиот – это тот, кто сознает, что он идиот, в отличие от объективного, который не сознает. Если спросить, чем действия и слова субъективного идиота отличаются от действий и слов идиота объективного, то различаться они могут только по внутреннему состоянию: субъективный идиот хочет из этого самообмана выбраться. И теперь я понимаю, что для меня всe это внутренне органично связанные величины, включая использование этого образа дурака. Это одна из нитей, так или иначе присутствовавших во мне. Я ее просто сейчас вытянул на поверхность.
Тиронс: Наверняка один из уроков Пятигорского – и по-своему Мераба тоже – может состоять в том, что когда человек не думает, он не живет. Очень хотелось бы, чтобы, например, деятельность в журнале давала возможность быть живым в этом значении. Но, возвращаясь к Пятигорскому, думание, о котором он говорит, требует усилия, это можно было бы назвать еще и вниманием к думанию. Все время находиться в таком состоянии внимания очень трудно.
Ритупс: Вот видишь, если ты жив только в такие моменты внимания, то по части срока жизни тебе покажется, что ты жил… 12 минут, например.
Тиронс: Да, выходит так.
Ритупс: То есть прожил ты столько-то и столько-то десятилетий, а жив был за всю свою жизнь…
Тиронс: Я так и думаю.
Ритупс: …12 минут. Помнишь, у меня был разговор с Бэби Ди, которая вскользь упомянула, что в жизни она думала только три мысли. И тогда мы с ней об этих мыслях поговорили. Вдобавок оказалось, что по меньшей мере две из этих мыслей ей были просто поданы готовыми. И это думание было осознанием, ощущением и пропусканием этих мыслей сквозь себя в отношении ко всему, что есть. Ну, например, подумать о любом живом существе как о своей матери. И вот ког-да ты подумал, меняется весь твой мир, а не какой-то фрагмент. Эти мысли, о которых ты говоришь как о редких и делающих тебя живым и без которых тебя как живого нет, ты можешь превратить в какое-то содержание?
Тиронс: Вряд ли… Иногда я, оглядываясь на свой день, понимаю, что его как бы и вовсе не было, иными словами, я в нем толком не ощущал себя живым. И одна из мыслей, делающих его более живым, – это осознание своей конечности. И если оно не становится неким щемящим ощущением, едва ли не философским, то оно придает мне эту необходимую жизненность; я понимаю, что у меня нет времени, что надо сделать еще то и это… Вот тогда осознание своей конечности и превращается в это необходимое внимание, которое присутствует во всем, что я делаю или думаю.
Ритупс: Прости, конечность – это то же самое, что смертность?
Тиронс: Да. И это вспоминание о смерти активизирует состояние моего сознания так, что появляется мысль о мысли или действии, которая благодаря этому состоянию внимания тоже уже превратилась в мысль, в нечто понятное, в мир, который можно понять.
Ритупс: Хочется понять, как бы ты такое описание своей жизненности распространил на журнал. Оживляет ли журнал своего читателя в том смысле, в каком ты иногда жил?
Тиронс: В той мере, как журнал определю я, – да. Потому что довольно много текстов, попадающих туда, связаны с этим желанием «встать на чью-то иную позицию и взглянуть на все». И занять эту позицию мне позволяет именно присутствие конца: когда я думаю об этом, все оживает. И это в журнале определенно есть. И не только потому, что кто-то считает, что там много статей о смерти. Если приглядеться, это вовсе не так.
Ритупс: Но ведь другие не пишут совсем.
Тиронс: По той причине, что…
Ритупс: Или другие пишут так мало, что незаметно, отсюда возникает впечатление, что…
Тиронс: Журнал Mistērija6, возможно, пишет, но совсем в другом значении.
Ритупс: Но про какую-то другую смерть. (Оба смеются.)
Тиронс: Про другую смерть, да. Пом-ню один эпизод в Звартаве, когда Пя-тигорский говорил на том семинаре, где Криста Буране рассказывала о философии и детях. В какой-то момент Пятигорский закричал: «Забудьте о детях! Философия не для кого-то! Фило-софия для радости, чтобы вы получали радость!» Чтобы радоваться.
Ритупс: Да!
Тиронс: Платон сказал бы: чтобы быть счастливым. А желание быть счастливым обосновывать не надо.
Ритупс: Радость тут служит очень хорошим мостиком между двумя предметами нашей беседы, журналом и…
Тиронс: Смертью. (Смеется.)
Ритупс: …домом. Не случайно один из первых лозунгов этого дома гласил: «Изгнать призрак коммунизма призраком радости». И мне не известна бóльшая радость, чем та, о которой пишет Декарт: радость, возникающая из понимания чего-то. Это очень редкая радость, но бóльшая мне не известна, хотя есть и другие формы радости, тоже желательные.
Тиронс: Но есть формы радости, от которых мне хотелось бы держаться подальше, так как они связаны с потерей внимания к себе, с известной экстатичностью, забвением. Хотя с позиции Кришны такие люди, возможно, занимаются тем, чем им положено заниматься.
Ритупс: Я сказал бы, что они не столько стремятся к радости, сколько занимаются самоцелительством, аутотерапией.
Тиронс: Но, забываясь, они, возможно, подключаются к какому-то более широкому ощущению или уровню, чем тот, на котором они пребывают в своей ограниченности, – может быть, участвуя в какой-то мистерии жизни и тому подобное. Однако они, скорее всего, теряют эту возможность отчужденного осознания себя, своей мысли. Тогда какой может быть цель таких состояний?
Ритупс: Тогда можно было бы спросить, какова роль праздников в жизни: маркируют и картографируют ли они какую-то память, или они соединяют тебя с источниками жизни и радости? В лучшем случае они соединяют; праздники – это то, где ты, человек, расцветаешь, где ты каким-то образом ощущаешь свою полноту.
Тиронс: А ты в таких случаях сохраняешь это отчужденное состояние сознания или нет?
Ритупс: Тут наверняка как когда, и кто как, и каковы цели. Мне кажется, что те, кто не вписывается в социальный карнавал, – дети, пьяницы, дураки и так далее – создают неудобство готовому миру, в каком-то плане его раздражают. Они еще не проглотили мир целиком и не стали кирпичиками, встроенными в какую-то более крупную конструкцию. Они выпадают, и мне кажется, что когда люди выпадают из привычных социальных ролей и привычного социального механизма, происходит нечто важное. Так, например, я сказал бы, что самое слабое место общества трезвенников в том, что они думают только о социуме и не думают о том, откуда социум растет и в чем черпает свои начала и свою жизнь. Приумножение радости могло бы быть одной из дхармических задач любого человека. Но стоит только подумать о людях, уменьшающих радость – все равно, в костюме государственного чиновника или в образе некоего хулигана, – то даже на интуитивном уровне становится понятно, что что-то там не так. Ибо нам… Нет, не нам… Я даже осмелюсь сказать, что людям, живущим человеческой жизнью, было бы хорошо стремиться к приумножению радости в себе и других и что ее уменьшение свидетельствует о какой-то внутренней преграде. Поэтому упоминание радости для меня очень важно и в связи с этим ддомом. И мы говорили о том, что и в журнале был бы желателен прирост некоего элемента веселья, и это тоже один из способов приумножения радости.
Тиронс: Я хотел бы лишь добавить, что лично мне радость доставляет хороший текст – уже потому, что он хороший. Вот недавно я, к примеру, читал «Свет в августе» Фолкнера, и впечатление от этого могу описать не иначе как чистую радость. Поэтому и журналу Rīgas Laiks, как мне кажется, следует стремиться не столько к смешному в текстах, сколько к хорошему тексту.
Но я хотел бы тебя спросить, пока не забыл… Ты упомянул рискованную игру с безумием, и мне пришла в голову туринская осень Ницше вместе с афоризмом «Остерегайся заглядывать в бездну, потому что она может заглянуть в тебя». Сейчас осень, хотя и не туринская, и ты, слава богу, не Ницше, но в последние дни, когда он еще сохранял рассудок, ему казалось, что любое совершаемое им движение отзывается в мире: что итальянская торговка фруктами именно для него отбирает самые сладкие виноградины и сбрасывает цену, что башня Антонелли – это просто его собственное Ecce homo. Одним словом, он казался себе средоточием мира.
Вот и у тебя нередко были неудачные начинания, хотя, например, фестиваль Rīgas Laiks 2013 года был чудесным, это было создание подлинно праздничного мира. Не думаешь ли ты, что в том, что ты часто вынужден отступать, есть что-то из того сладкого винограда Ницше, когда тебе самому кажется, что мир тебя замечает, хотя это и не так?
Ритупс: Ты меня спрашиваешь, не казалось ли мне так?
Тиронс: Да. Мне временами так кажется.
Ритупс: Два дня назад мой дорогой Бронислав7 прислал одно из своих ежедневных сообщений, рассылаемых им по всему миру, где его литературный герой говорит: «В условиях случайного совпадения ты разговариваешь с вечностью. Когда с тобой не происходит случайное благоприятное совпадение, ты не замечаешь, что говорит вечность».
И мне кажется, что желание использовать интенсивные состояния сознания, требующие не только от меня, но и, похоже, от других, кто со мной сталкивается, какого-то усилия, связаны с открытостью случаю. Скажем, я рассказывал, что у ддома три крыла: белое крыло разума, черное крыло страха и красное крыло Эроса. И это вращение дома является сочетанием трех этих сил. И одному швейцарскому финансисту, заехавшему поговорить про Олдоса Хаксли, я хотел открыть некую еще не открытую комнату ддома. В единственной комнате, которую я смог открыть, был маленький шкафчик: я выдвинул ящичек и увидел там три пластмассовые ручки – одну белую, одну черную и одну красную. Моя старшая дочь не хотела верить, что это не я их туда заранее подложил. Есть некий уровень сознания, на котором это можно увидеть просто: надо же, какое странное совпадение! И есть некая другая перспектива, где это может вскрыться как важный отклик на то, что ты сам делаешь, или как подтверждающий ответ от ддома на то, что я делаю. Такую мистификацию, или мифологизацию, или сказочное отношение к событиям я практиковал, и в рамках этого приходилось быть открытым к тому, что говорящим знаком или даже указанием может стать что угодно. Что угодно может нести смысл. Стоит только интенсивности сознания или отношения снизиться, и ты уже не можешь заметить ни один из этих случаев. Это требует перехода в сказочное состояние сознания, где ты тоже один из героев, и вот тогда ты тоже можешь относиться к любому случайно обращенному на тебя взгляду как к чему-то важному. Мир начинает пульсировать смыслом и значениями – в куда более широких горизонтах, чем когда я пребываю в предсказуемом обыденном состоянии сознания.
И все же перейти из одного состояния сознания в другое и суметь вернуться – это трудная, утомительная работа. Но такую практику я выбрал, чтобы вызывать превращение мысли в действие, если хочешь. Неудачи, о которых ты напоминаешь… Понятно, что в момент слабости мне тоже казалось, что я ничего не могу сделать, ни на что не способен, просто сплошная череда неудач. Но при этом я помню, что вижу это только из одно-го определенного состояния сознания, а реальность или то, чем ты сам не являешься, оказывает материальное сопротивление воплощению любых замыслов. Поэтому приходится использовать разные состояния сознания как смотровую площадку, откуда видны разные вещи, но одно и то же событие может проявляться десятками способов: так мне кажется чуть ли не на азбучном уровне. Иначе ты не можешь видеть. Чтобы увидеть иначе, тебе надо перейти в другое состояние сознания или, выражаясь еще изысканнее, в иную позицию мышления. Но это переключение может запускать и нечто от тебя не зависящее: в таком случае в тебе нечто живет, сквозь тебя нечто живет и реализует свои программы. Хотя можно попытаться научиться всем этим управлять. Это трудно. Я этому учусь.
Тиронс: Наверное, после такого ответа было бы глупо спрашивать вдогонку: назови главное, что ты понял в жизни?
Ритупс: Я понял, что ни один из моментов внутреннего разговора или мышления не является независимым от того, в каком состоянии сознания ты находишься. Сейчас о сознании я говорю как о перекрестье энергии и внимания, ничего другого там нет. Есть внимание и есть энергия для поддержания этого внимания, ничего больше не надо придумывать, никакого сознания вне этого нет. Стало быть, о чем бы ты ни думал, какие бы решения ни принимал, это зависит от того, в каком состоянии сознания ты находишься, с какой энергией движется твое внимание, и направление этого внимания можно менять.
Тиронс: Тут есть один аспект, который меня смущает.
Ритупс: Только один?
Тиронс: Может, их и больше, но меня смущает то, что для наблюдения изменений состояния сознания нужен кто-то, кто эти изменения наблюдает. То же касается и сна: кто-то должен наблюдать, что это сон.
Ритупс: Да.
Тиронс: Не знаю, можно ли это назвать состоянием сознания. Ведь, строго говоря, я состоянием сознания назвал бы то, когда я сознаю, что я вижу сон. Одновременно видеть сон и сознавать, что это сон, очень трудно.
Ритупс: Это очень сложная практика.
Тиронс: Да. Потому что это означает, что необходимо еще одно сознание, не спящее и не бодрствующее, но способное наблюдать как одно, так и второе состояние.
Ритупс: Сознание, никогда не молодеющее, никогда не стареющее, никогда не наделяющее его…
Тиронс: Такое сознание присуще Пятигорскому.
Ритупс: В некоторых текстах я читал или от нескольких людей слышал, что оно присуще любому, каждому живому существу. Только не каждый им пользуется. Мне это кажется едва ли не онтологической константой – то, что наблюдатель присутствует все время. Не часто, а действительно все время.
Тиронс: Не знаю. Мне кажется, что к такой позиции нужно стремиться, ее нужно постоянно создавать, и я не говорю о великих йогах или достигших непрерывного молитвенного бодрствования. Для меня это значит постоянно помнить, что я должен создавать подобную позицию сознания, из которой тогда я могу на себя смотреть в любом, в том числе и бессознательном состоянии.
Ритупс: Многовато ты на себя взял. Не надо тебе эту позицию создавать, она еще до тебя была.
Тиронс: Я бы сказал, что, скорее, есть такая возможность.
Ритупс: Это два разных описания мира.
Тиронс: Хочешь еще что-то сказать?
Ритупс: Можно закончить так, что я напомню те шесть вещей, о которых я реву и рычу уже месяцев шесть: учитесь у грибов, всю власть дуракам, все деньги дуракам, всю славу дуракам, все удовольствие дуракам, работу – всем прочим.
Тиронс: Скажи, пожалуйста, зачем тебе нужны эти шесть возвышенных…
Ритупс: (Смеется.) Нет, это просто лозунги, рычание.
Тиронс: Да-да. Но, строго говоря, хватило бы и семи правил Пятигорского по созданию отчужденного сознания. Зачем тебе нужно вводить еще и свои?
Ритупс: На мой взгляд, семь прекрасных правил Пятигорского очень хороши, чтобы между людьми мог состояться разговор. Но вне разговора или вне включенной в наблюдение мысли есть еще такое поле, которое после Аристотеля называют практикой и связанной с ней практической частью философии. И ее центральная ось – этика, под которой понимается воспитание характера или неразумной части души. Не разумной, необходимой для разговоров и наблюдений, а неразумной части души, с которой связана социальная жизнь. И мне кажется, что почву, способную взрастить пытливый ум, надо как-то рыхлить, делать более пористой. Надо рыхлить почву давних институтов – университетов, государств, бюрократических аппаратов, – создавать щелочки, в которые что-то может протиснуться. There is a crack in everything, that’s how the light gets in. Так мне казалось, и отсюда и произрастает эта игра с правилами и прочее дуракаваляние.
Тиронс: У меня все равно сохраняется такое ощущение… Как гениально сказала Белшевица8: у приличного человека не может быть подсознания. То есть я сомневаюсь в Аристотеле. И осознание этой «неразумной части души» уже является осознанием той тьмы, которая перестает быть неразумной, когда я направляю на нее свет своего разума.
Ритупс: Она… стала разумнее только в одном значении.
Тиронс: И твоя попытка занять, так сказать, более папистскую позицию, чем…
Ритупс: Более папистскую?
Тиронс: Ну папа – самый главный там, наверху. Ты меня смущаешь, потому что мне кажется, что сознание человека в один конкретный момент способно занимать только одну позицию.
Ритупс: Я просто напомню, кто сидит в кабинете генерального секретаря ддома, кто самый главный.
1 Период Первой независимости Латвии длился с 1918 по 1940 год, когда страну оккупировал Со-ветский Союз.
2 Atpūta («Досуг») –литературный иллюстриро-ванный журнал Остзейских губерний, позже латвийский еженедельный журнал. Выходил в 1911–1912 и 1924–1941 годах.
3 Avots – легендарный ежемесячный журнал, вы-ходивший с 1987 по 1994 год. Публиковал прозу, сти--хи, литературные переводы, публицистику, критику, статьи по искусству. Параллельно выходила русская версия под названием «Родник», глав-редом которой был писатель Андрей Левкин.
4 Grāmata («Книга») – ежемесячный литературно-философский журнал, выходил с 1990 по 1993 год; как перестроечное издание публиковал много переводов авторов, до того недоступных на латыш-ском языке.
5 На латышском для собирания чего-либо и для чтения используется один и тот же глагол – lasīt.
6 Mistērija – журнал о мистике и эзотерике нью-эйджевского толка.
7 Бронислав Виногродский – синолог, философ-ско-мистический искатель и просветитель.
8 Визма Белшевица (1931–2005) – одна из главных латышских поэтесс, прозаик, переводчик.