Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
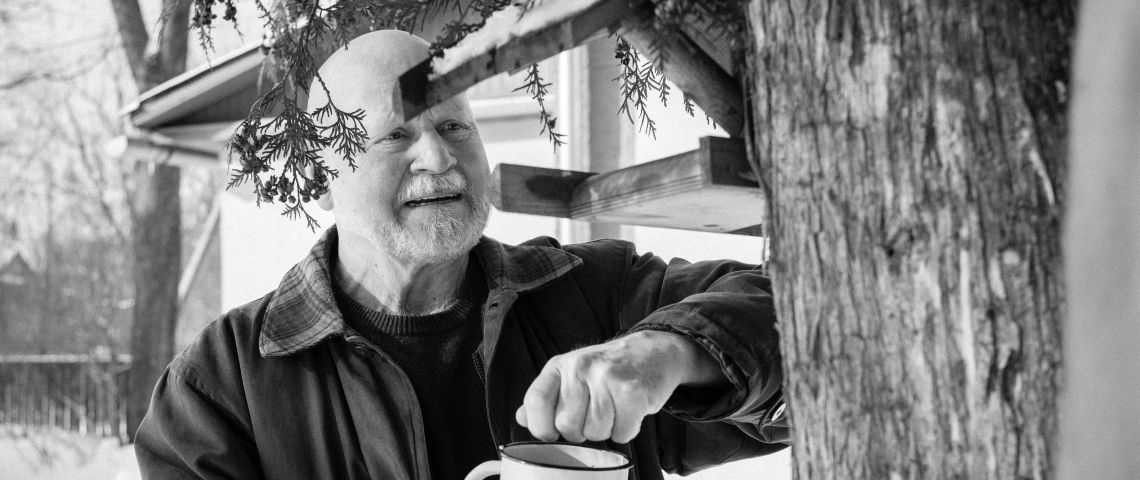
Петериса Васкса (род. 1946) называют одним из наиболее видных представителей «новой простоты»в одном ряду с эстонцем Арво Пяртом, грузином Гией Канчели, поляком Хенриком Миколаем Гурецким и британцем Джоном Тавенером. Международное признание Васкс резко обрел после распада советской империи; в 1990году композитор заключил контракт с престижным немецким музыкальным издательством Schott Musik International. Его произведения исполняли выдающиеся музыканты и коллективы, в том числе скрипач Гидон Кремер, виолончелист Давид Герингас, симфонические оркестры Филадельфии, Бостона и Лос-Анджелеса, Kronos Quartet. Творчество Петериса Васкса отмечено многочисленными наградами, включая премию им. Гердера (1996), орден Трех Звезд (2002), Cannes Classical Award (2005). Работы композитора используются хореографами ряда стран для оригинальных балетных постановок.
Названия произведений Васкса ясно отражают его романтическое ощущение мира – «Музыка улетающим птицам», «Далекий свет», «Летние песнопения», «Голоса в тишине»... Знаменательно, что один из первых альбомов Васкса Западе назывался «Послание». Действительно, музыка Васкса – это послание. Для него это важно.
Янис Петрашкевич
Я ярко помню тот момент, когда я открыл для себя вашу музыку. Это было в 1988 году, и мне было 10 лет. Я услышал по радио Cantabile per archi, Musica dolorosa, «Час пик» и был очарован. Я отправил вам восторженное письмо и был несказанно поражен и счастлив, получив ответ... В письме вы пожелали мне никогда не терять ощущения чуда по отношению к музыке. Как вы поддерживаете это ощущение чуда в себе самом?
Для меня музыка действительно всегда была чудом и таковым останется – я в этом полностью убежден – до последнего вздоха, до последней ноты. Если это исчезнет, то какое вообще право я имею писать музыку? Ничего прекраснее жизни в музыке я в мире не знаю. Я по-прежнему радуюсь каждому новому дню, я не утратил эту радость, я счастлив. Звучит это, конечно, патетично, но зачем кокетничать, я достаточно патетичен в своей музыке. Но мой основной принцип – каждую работу писать как первую и одновременно последнюю, с величайшим пиететом к каждому звуку, вкладывать в каждое произведение тот максимум, на который я вообще способен.
Вы не могли бы поподробнее объяснить, в чем проявляется это чудо музыки?
Слушая музыку, написанную моими коллегами в разные столетия, я иногда переживаю ощущение, которое можно было бы назвать внезапным откровением. Я не знаю, что именно во мне раскрывает эта музыка, но это миг такого невероятного эмоционального подъема, когда ты теряешь чувство телесной реальности и оказываешься в совсем другом измерении. Часто музыка может растрогать меня до слез... Ты избавляешься от всего и улетаешь в небывалое, прежде неизвестное состояние. А вот когда сам творишь музыку... Я читал о том, что пережил Гендель, когда две недели писал «Мессию» – не ел, не пил... Что он ощущал? Мне неведомо. Сам я отношусь к композиторам-крестьянам, работающим упорно, целенаправленно, медленно. И однажды наступает миг озарения идеей. Если этот миг удается зафиксировать, то дальше никакой череды чудес, один сплошной труд. Но мне очень трудно описать или проанализировать этот миг, когда нечто внезапно нагрянет, когда это происходит... Нет, я не умею.
Вы говорили, что нужен внутренний огонь, чтобы музыка несла какое-то послание.
Ну, если делать что-то умеренно, то и результат будет умеренным... Возможно, отчасти этим объясняется моя невысокая производительность – ты не можешь непрерывно поддерживать высокую температуру, ты попросту сгоришь. Мне любая композиция представляется концентратом духовной энергии, когда ты месяцами создаешь тот максимум, на который способен.
Простите, что именно вы подразумеваете под «концентратом духовной энергии»?
Это рассказ о моей любви к миру... Духовная сила есть в каждом человеке – больше или меньше. Ты можешь быть продавцом в магазине или дворником – совершенно все равно.
Как вам удается поддерживать в себе такую любовь?
Я каждое утро просыпаюсь с ощущением, что мир прекрасен... У нас прекрасная земля, у нас четыре времени года, и в каждом из них можно многое найти для радости. (Молчит.) И человек... Люди часто так прекрасны... Это, наверное, какой-то великий подарок от Бога так это чувствовать. И я просто не могу удержать это в себе, я хочу об этом рассказать. Я ничего не придумываю, ничего не конструирую, я просто делюсь своей радостью от этого ощущения. (Молчит.)
Мне вспоминаются ваши работы, явно созданные под влиянием именно внешних коллизий, то есть известные внешние события разжигали внутреннее пламя, или ощущение любви, о котором вы говорите. Например, симфония «Голоса».
Да, возможно, это один из особенно ярких случаев, когда совокупность обстоятельств что-то привнесла дополнительно. Я начал писать ее осенью 1990 года. Мою музыку услышал финский дирижер Юха Кангас. Мы с ним добрые друзья и единомышленники уже больше 20 лет. Он предложил мне написать композицию для его камерного оркестра Остроботнии. Так я написал первую часть «Голоса тишины». А потом наступило время баррикад. Было ощущение поразительного единства народа, огромной духовной силы – невзирая на полную нищету и пустые магазины. Это было совершенно уникальное время. После всего этого трудно было продолжать, но я написал еще две части симфонии – «Голоса жизни» и «Голос совести». Эта особая ситуация, возможно, как раз помогла найти те средства выражения, чтобы музыка включала контекст того момента как часть послания: Балтия борется за свою свободу, композитор с наивными мечтами против могучей советской власти. В конце концов, партитуру до обещанной даты я написал и отправил. Но кто мог в то кошмарное время знать – отправить-то отправил, но дойдет ли? Продолжение было интересным – в то лето я жил в Салацгриве, был августовский путч, с утра по радио зазвучало «Лебединое озеро», и понеслось. Я подумал примерно так: «Ну, слава Богу, партитура отправлена, 8 сентября ее сыграют. Но самому мне сказочную Финляндию уже не видать». У меня к этой стране всегда были самые теплые чувства. Изумительные люди... И фантастические музыканты. Ну да. Но все же случилось чудо, и в день премьеры финские газеты вышли с флагами трех стран Балтии на первых страницах, а ельцинская Россия признала нашу независимость. Вот такая история.

По вашим высказываниям в интервью прежних лет я могу судить, что вы жили с завидным знанием о том, зачем сочинять музыку.
Я сын баптистского священника, причем священника выдающегося. Он всегда говорил: не забывайте про духовность, ведите духовно богатую жизнь. Я делаю то же самое, что и мой отец, только через звуки музыки, и моя основная тема в том, что музыка должна утверждать возможность гармонии, идеала, вневременной красоты. Мне кажется, в музыке это можно очень хорошо выразить, и я всегда старался это делать. Я таков в этом мире, здесь, в Латвии, на прекрасной свободной земле, и я буду писать так, как это ощущаю, даже если никто не пожелает слушать... Это мой внутренний огонь, из которого я творю звуки... Если этот огонь способен согреть, способен дать миг радости, миг счастья, миг духовного откровения одному или двоим, я радуюсь. Если нет, то я все равно... Раньше я говорил, что музыка преобразит мир, теперь я говорю: она поможет удержать мир в равновесии, поможет ему балансировать на краю пропасти.
Помню, еще в конце 80-х я слышал про вас радиопередачу с названием «Почти монолог». Одной из центральных ее тем было одиночество. Вы говорили про боль, когда хотите что-то очень важное для себя передать через музыку, и с ужасом видите, что слушатели вас не понимают. Вы даже сказали, что «в каждом пустом кресле сидит одиночество». Как вы вспоминаете то время?
Профессия композитора – это профессия одиночки... Недели, месяцы проходят наедине с листами партитуры. Хотя, с другой стороны, это очень вдохновляющее одиночество. Если ты живешь со своей композицией, ты не можешь быть полностью одинок. В конце концов, композитор уже живет с несметными богатствами, созданными титанами предыдущих поколений. Так что, пожалуй, это можно назвать благотворным для композитора одиночеством. Но для молодого композитора с его максимализмом это ощущение одиночества, конечно, драматичнее, даже с каким-то привкусом отчаяния... Это действительно чудовищное чувство, когда ты сжег себя без остатка, всего себя вложил в произведение, а потом смотришь, как публика мается в креслах, и видишь, что им неинтересно... Для молодого, начинающего композитора это особенно тяжело. Со временем ощущение, что тебя не понимают, немножко слабеет. Хотя если говорить о наших слушателях, я часто замечал, что большинство латышских слушателей – а их вообще мало – способно приблизиться только к музыке, написанной со словом, с текстом. Мы выросли на песнях и потому отождествляем музыку с вокалом. Это можно видеть и в церкви – пока поют, все слушают, но как только заиграет орган, все считают, что теперь можно поговорить – ведь музыка всего лишь фон. Упомянутое вами ощущение в 80-е годы было обостренным, а сейчас поутихло как-то...
Но в сравнении с 90-ми годами ситуация объективно сильно изменилась: и в Латвии, и в мире много людей, которые любят вашу музыку, для которых она важна.
И да, и нет... Могу упомянуть, что в моей музыке 80-х годов, возможно, было слишком много черного, даже агрессивного, трагического, а идеальное присутствовало лишь как отблеск. Но довольно скоро все изменилось с точностью до наоборот: главное послание теперь связано с верой и любовью, где время от времени, возможно, присутствует упоминание о существовании иного мира. Но только как упоминание. Может быть, слушатель как раз ждет от музыки возможности духовной жизни – мечты, идеального мира, которого нам не хватает, которого у нас нет, и это делает людей такими несчастными. Но я никогда никому не старался угодить – это просто мое послание, мой рассказ. Это мой единственный язык.
В одном из интервью вы сказали: «В своей музыке я говорю на латышском языке». Что значит в музыке говорить на латышском языке? Имант Земзарис в уже упоминавшейся передаче «Почти монолог», например, говорит: «Думаю, что только с 80-х годов можно вести речь о первых прочных кирпичах фундамента, реально позволяющих формулировать сущность нашего родного музыкального языка. Как формулировать? – Диатоника? Взвешенная сдержанность? Лаконизм в высказываниях, нотных знаках? Монохромные цвета? Спокойствие с вызреванием одной могучей кульминации в центре формы?»
Думаю, что это мое высказывание отчасти поэтично. В моей музыке довольно много диатоники – народная музыка, как известно, в своей основе диатонична. Я иногда вставляю в свои композиции якобы народные песни, которые сочинил сам. Мой аргумент таков: я латыш, так почему бы мне не сочинить народную песню как символ. А мысль о разговоре на латышском языке для меня соотносится со временем, когда мы еще были в составе советской империи. Наша судьба вполне могла повернуться иначе, и дело бы дошло до полной русификации. Не знаю, стоит ли об этом вспоминать, но тогда были большие проблемы с написанием вокальных произведений с текстом, поскольку поэзию контролировали. А инструментальная музыка была островом свободы. Если я в то время писал музыку на тексты, то в основном это были тексты дайн. Их не трогали, но через них очень ярко проявлялась народная культура.
Все же по-человечески мне в ту пору, в сравнении с другими, пожалуй, было легче именно потому, что эта творческая жизнь была островом свободы и независимости – там никто не мог на меня надавить, там я был свободен. Но только отталкиваясь от чувства внутренней свободы, ты можешь творить; если ты в оковах, это неестественная ситуация для творческого проявления. (Смотрит в окно.) Ну и в конце концов – если я пишу о деревьях, о птицах, о лугах, о море, о реках, об озерах, что в этом... Они не такие, как где-то в другом месте, это иначе, чем если бы какой-нибудь композитор начал писать о том, что находится в каком-то другом месте.
У вас есть и композиция для клавишных под названием «Ландшафты выжженной земли». О чем эта работа?
Это довольно трагическая работа. Это было лето 1992 года, очень засушливое, когда горели леса в Курземе, а дымом пахло даже в Видземе. Но важнее всего было грустное ощущение, что люди в Латвии только что обрели свободу, но... оказались к этому не готовы. Дескать, что толку от той свободы, если нет колбасы. Так что речь скорее о ландшафтах выгоревшей души... Но абсолютно трагическое произведение у меня только одно – Musica dolorosa – памяти сестры. Там нет никакой надежды, только отчаяние и оставшийся без ответа вопрос: почему... В «Ландшафтах выжженной земли» три части, звучащие без перерыва: первая в большей степени визуальна, во второй нарастает один мотив, ведущий к трагической кульминации, а в последней части вступает хорал, в моей музыке часто несущий смысл символа – как надежду. Хорал звучит трижды, а в
конце появляется еще голос птицы, как бы показывая, что жизнь все же возвращается, она обязана вернуться. Часто на Западе – теперь уже нет, но поначалу часто – меня спрашивали: «Расскажите, как вы писали музыку в годы оккупации и как пишете сейчас!» Они ждали истории о том, что в свободной стране пишется иначе. Да нет же! В общих чертах установки не изменились. Правда, в советские времена был этот аспект – ощущение присутствия оккупации... Поэтому для меня в ту пору было особенно важно говорить об этом моменте веры, надежды, не потерять его. Ведь о свободе только в искусстве и можно было говорить, да и то с огромными трудностями.
Вы упомянули о своей любви к миру, о том, как это чувство отражается в вашей музыке. Я допускаю, что для оживления этого в звуке необходимо определенное, как вы сказали бы, «пылающее» отношение исполнителей к нотному тексту. Вам приходилось работать с исполнителями, не улавливающими это ваше ощущение?
Да, но, слава богу, это было очень редко, всего пару раз за границей. Должен признаться также, что, хотя Праздник песни в моей жизни всегда был одним из счастливейших моментов, считаю, что ничего толкового не получается, когда мою музыку поют любительские хоры. Но я про это рассказываю в контексте другого события – у меня есть композиция Dona nobis pacem, которую в Финляндии исполнял любительский хор с профессиональным оркестром. Я пришел на генеральную репетицию – это был концерт в память моего хорошего друга композитора Пера Хенрика Нурдгрена – и вижу, что хор поет холодно. Они стараются, приехал композитор, но они не чувствуют... нет в этом жизни. Три слова: «Дай нам покой»... И тогда я попросил дирижера сказать: «Пойте Dona nobis pacem так, словно молитесь за самого близкого человека». И случилось чудо – все вдруг изменилось. В музыке появилось тепло. Но с профессиональными музыкантами буквально пару раз случалось так, что вижу – тебя не понимают. Обычно у тех, кто заказывает мне музыку, есть представление о том, как я пишу.
Вспомнились слова Штокхаузена о том, что послевоенная авангардная музыка отражает космические процессы, а не проявления человеческих чувств. И тут же ассоциация с Арво Пяртом – можем ли мы говорить об эмоциональности в его музыке? Или это тоже в своем роде «космическая» музыка?
Я всегда любил музыку Арво и поражался ей – и в так называемый авангардный период начала 60-х годов, и в период tintinabuli. Он меня всегда убеждал, и у меня всегда была внутренняя душевная потребность слушать его музыку. В его авангардном периоде тоже присутствовал этот аспект света, надежды, любви. Но потом он стал говорить только о свете... Его свет – это музыка над временем, написанная композитором, сидящим на краю облака, по ту сторону человеческих страстей... Это музыка, у которой больше нет эмоционального соприкосновения с обуревающими человека страстями... Он как бы пребывает в мире какой-то высшей объективности. Хотя пару раз в его последних работах я с изумлением ощутил, что там есть внутри страсть – немножко, фрагментарно, внезапно... Но в сущности это музыка по ту сторону боли... Я думаю, Арво так представляет себе райскую музыку. Мы ничего не знаем о райской музыке, но это она, да.
Мне знакомо ощущение, когда очень хочется поделиться с кем-то музыкальным чудом, музыкальным откровением, изменившим твою жизнь. Для меня это Бах и Малер. Есть ли определенные произведения, с которыми у вас особые отношения – такие, после которых возникает ощущение, что мир засиял другими цветами?
Я очень хорошо понимаю твою мысль – да, это были самые прекрасные, самые незабываемые моменты. (Размышляет.) Вагнер! Были мгновения счастья, когда я слушал Вагнера.
Вы можете выделить какое-то конкретное произведение?
Моя любимая опера Вагнера – «Валькирия». Давным-давно, в 1963 году, в Риге ее ставили... Это было одно из сильнейших переживаний. Позднее – Лютославский. И в конце 70-х, когда польский музыковед Кшиштоф Дроба из Краковской музыкальной академии привез в Вильнюс первую запись 3-й симфонии Хенрика Миколая Гурецкого. Та самая симфония, которая позднее в обороте так называемой серьезной музыки была издана крупнейшим тиражом – более миллиона. Эта музыка для меня была ударом молнии, полным шоком – особенно первая часть. Потом некоторые произведения Пярта. И еще один композитор стал для меня фантастическим откровением – малоизвестный голландец Юп Франсен. Его исполняли у нас – Национальный симфонический оркестр играл Sanctus. Композитор с нелегкой судьбой у себя в Голландии, поскольку он другой. Да, и сюита Сибелиуса Rakastava – в оригинале для мужского хора, позднее переложенная для струн. Для меня это было как вспышка – слушал и думал: о Господи, как красиво все же звучат струнные инструменты!
Меня приводит в недоумение столь сильная незаинтересованность, даже нетерпимость общества к создаваемой сегодня не популярной музыке. Помню – раньше вы и сами были очень критичны, полагая, что написанная сегодня музыка на 95 процентов плохая и лишь на 5 процентов хорошая, и все же всегда старались следить за процессом, посещали концерты...
Меня часто приводят в недоумение музыкальные критики, причем я говорю не про Латвию. У нас критика либо отсутствует, либо совсем маргинальна, разве что Латвийское радио по мере сил пытается следить за процессом. Но почти во всем мире у критиков присутствует сознательная или неосознанная нетерпимость к тому, что сегодня вообще еще кто-то что-то пишет. Это очень распространенное отношение: то, что он пишет, уже само по себе как-то подозрительно. Как вообще такое возможно? Я думаю, если музыкальное произведение написано, оно должно прозвучать. Но есть ли у него какое-то будущее? Это мне неведомо... Разумеется, все еще чуточку сложнее. Вполне может быть, что выдающееся произведение незаслуженно забыто, так как ему не повезло с премьерой. Но ведь все мы прекрасно знаем, что создаются отнюдь не одни сплошные шедевры. В наши дни композитор находится в такой, мягко говоря, незавидной ситуации – ты выходишь в одиночку против сборной предыдущих столетий. Все лучшее, что было, теперь доступно в записях. И это очень суровая конкуренция, незавидная конкуренция. Так обстоят дела, и это надо признать. Возможно, в малых странах музыкальная жизнь даже проще, так как там больше выделяется и исполняется национальная музыка. Вопрос в том, что с ней происходит потом.
Но как развить диалог со слушателем?
Я не сторонник специфических фестивалей. Мне нравится ситуация, когда новые работы включаются в филармонический концертный оборот. Но поскольку слушателей в Латвии мало, мы имеем то, что имеем. Непаханым полем тут мне кажутся летние музыкальные фестивали, которых в Европе очень много. Я их повидал предостаточно – от Финляндии до Португалии. По большей части они проводятся за пределами больших городов, в небольших деревушках. Тамошние слушатели больше открыты для музыки, не так насторожены, как традиционалисты в больших городах. Помню, много лет назад в Германии на фестивале в Шлезвиг-Гольштейне играли «Послание» для большого струнного оркестра, двух фортепиано и ударных. Ко мне подошли три датские фермерши со словами: «Послушайте, как такое возможно – мы думали, что в современной музыке ничего нельзя понять, но ваша музыка нас тронула, увлекла!» Есть музыка, обращенная к массам, а то, что я пишу, обращается к каждому человеку лично. Мне этот личный, интимный разговор кажется крайне важным, фундаментальным.
Такое ощущение, что сейчас господствует клиповое восприятие, люди не готовы воспринимать развернутые повествования, в том числе и музыкальные. Музыке отводится второсортная, фоновая роль.
Видишь ли, в том-то и дело, что композитор в своей музыке может предложить иной, альтернативный путь... Разумеется, ту музыку, которую мы сочиняем, слушает довольно малая часть людей, хоть немного интересующихся культурой. И я в своей музыке говорю: прекратите свой бег, остановитесь, прислушайтесь... Нет, я не приемлю то небрежное, поверхностное время, в котором мы живем. Например, симфония, в моем восприятии, это роман в звуках. Без новых симфоний очень трудно сегодня существовать. Но я помню премьеру своей 3-й симфонии в Финляндии, в Тампере, в одном из лучших концертных залов Скандинавии – в программе два боготворимых мной композитора, Сибелиус и Лютославский, а потом, после небольшого перерыва, моя одноактная 45-минутная симфония. Зал был полон! Мои друзья, приехавшие из Англии, Германии, Нидерландов, говорили: «У нас такое немыслимо! Полный зал при такой программе!» Так что финны и в музыкальном плане исключительный народ, я не устаю об этом упоминать. Это было уникальное, фантастическое событие!
Правда, что вы работаете стоя – у конторки?
Сочиняю я за роялем, но у меня есть конторка, за которой я пишу, переписываю и провожу довольно много времени. Я вообще считаю, что без физической активности нет полноценной жизни. Раньше я бегал на свежем воздухе, теперь занимаюсь в спортзале. Мне всегда очень нравился спорт, только не с бутылкой пива перед телевизором, а так, чтобы пот рекой, а ты не сдаешься, борешься. Я научился отключаться от фоновой музыки в спортклубе, перестал ее слышать. Ведь наше общество, как известно, одержимо тем, что на фоне обязательно должно что-то звучать. Разве есть что-то ужаснее фоновой музыки? Быть фоном – какое жуткое унижение для музыки. Кстати, на бегу хорошие мысли в голову приходят. Мозг раскрепощается. Для меня это тоже важно. Довольно часто на бегу я обдумываю какую-то проблему и обычно нахожу решение. Так что бег мне нужен в профессиональном плане тоже.
Вы говорите, что над каждой композицией работаете медленно и долго, тщательно оттачивая каждый звук. Не расскажете поподробнее о рабочем процессе?
Мои произведения – дети моей души. Над большими вещами работаю примерно девять месяцев. Я профессиональный композитор и пишу по заказу, но есть одно важное условие: я согласовываю композицию, но в плане идеи требую полной свободы. И для меня важно, чтобы на выполнение заказа отводилось достаточно времени – я знаю свои темпы. И тогда я сажусь и работаю. Регулярно. Такова вся моя жизнь. Сложилось так, что у меня довольно много инструментальных концертов. Поскольку интерес к новым композициям исходит в основном от солистов, реже от дирижеров. Мне очень нравится писать соло для инструмента с оркестром – большим или малым оркестром. У сегодняшних инструменталистов очень сильная техника, а если еще она сочетается с эмоциональностью и выдающейся музыкальностью, появляется прекрасная возможность максимально использовать инструмент. Если ты напишешь музыкально насыщенный сольный концерт для определенного инструмента, где этот инструмент действительно используется по максимуму, то у него есть какое-то будущее. Мой скрипичный концерт «Далекий свет» исполнялся сотни раз, очень часто исполняется виолончельный концерт, а концерт для английского рожка присутствует в репертуаре почти всех его солистов. Доводилось слышать, это потому, что я осмеливаюсь писать музыку, в которой эти инструменты поют, раскрывая свою подлинную сущность.
Как вы объясните свое столь глубокое и естественное ощущение струнного оркестра? Musica dolorosa, симфония «Голоса», Viatore.
В бытность контрабасистом я играл какое-то время в камерных оркестрах в Риге и Литве и сравнительно рано понял, что струнный оркестр – мой идеал звучания. Наряду с прочим меня особо увлекали кантилены, ощущение бесконечной напевности. Как божественно звучит большой струнный состав – 60 струнных инструментов! Это стихия. В струнах мое послание лучше всего звучит, я лучше всего могу его пропеть.
Как вы понимаете гармонию?
Я бы сказал, что мой жизненный, да и музыкальный опыт основан на ощущении равновесия, согласия. Была, конечно, определенная эволюция. Поначалу моделью была латышская классическая хоровая песня, я написал цикл песен на слова Яниса Порукса. Мои искания ясности и идеалов были связаны с Поруксом. Тогда я еще не был готов к поэтам нового поколения. В тот период моя музыка была довольно суровой. (Молчит.) У каждого свой опыт... Есть история про голландского, кажется, музыковеда и его филиппинскую жену. Не знаю, как она стала его женой, но представления о музыке у нее не было ни малейшего. Он писал книгу о так называемой современной музыке и соответственно в больших количествах ее слушал. Закончив книгу, он облегченно вздохнул и поставил Моцарта. Но тут вбежала жена: «Что это за ужас?! Выключи сейчас же, я не могу это выдержать!» Так что чувство гармонии зависит от нашего опыта.
Похоже, тишина занимает особое место в вашем понимании гармонии. Как соотносятся звук и тишина в вашей музыке? Или тишина вне вашей музыки?
У меня совсем немного произведений, начинающихся сразу с forte, fortissimo. 2-я симфония – первое, что приходит на ум. В моей музыке тишина – это начало и конец. Мне трудно начать произведение... Пиетет к тишине настолько глубок, что первые ноты я беру очень осторожно... И в конце обычно звуки тают в тишине. Это так, что ты на какой-то миг спускаешься на эту землю, чтобы сообщить, о чем ты хочешь сообщить, а потом снова улетаешь. Как грустная, одинокая птица (смеется)...
Да, многие ваши произведения начинаются с нисходящего, скользящего движения и завершаются восходящим. Та же симфония «Голоса», о которой мы уже говорили.
Ну, на это можно двояко взглянуть... Я много об этом думал. С одной стороны, говорю себе – это твои стереотипы, твои штампы. А когда защищаюсь, говорю – нет, это моя специфика, моя особенность. Я принимаю обе эти точки зрения. Но я это знаю, да... Но есть еще и ритм сердца, напоминающий, что мы еще живем, еще существуем (стучит пальцами по столу). Вот так у меня, да... Но зачем себе что-то искусственно запрещать? Может быть, из всего того, что я десятилетиями упорно писал, какая-нибудь вещь будет звучать и через 50 или 100 лет. И там будет этот прилет и отлет, этот рассказ о времени конца XX и начала XXI века, когда здесь некий композитор в Пардаугаве, или у моря, или у какой-то реки летом написал музыку. Рассказ, который он хотел поведать своим современникам. О своей земле, своем народе, своих людях, своей любви, своей боли, своем отчаянии, своей вере...