Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Вадим Кругликов опять меня победил.
Когда-то давно я обещал написать предисловие к его интервью – настолько давно, что благополучно об этом забыл.
Недавно мне напомнили и прислали текст. Я прочитал и понял, что мне совершенно нечего об этом сказать. Я-то думал, что интервью будет «об искусстве», и готовился писать умный комментарий. Не тут-то было: Кругликов опять наговорил какой-то восхитительной ерунды про пьянство, общежитие, Ялту и пельмени. Что тут комментировать?
И так всегда. Читая тексты Кругликова и глядя на его работы, я ощущаю, наряду с восторгом, и некоторую обиду. Мне кажется, что Кругликов пародирует меня, причем довольно успешно. Называет себя концептуалистом и выставляет это почтенное занятие, которому я посвятил всю жизнь, в совершенно дурацком свете.
Это, кстати, совсем не так просто. Концептуализм, особенно тот, который называют московским, сам по себе в каком-то смысле пародия на настоящее искусство. Как хороший анекдот, он показывает комические и сомнительные стороны искусства, сдвигая и разоблачая, казалось бы, очевидные и общепринятые мнения по этому поводу.
Считается, что спародировать пародию практически невозможно – нельзя сделать карикатуру на карикатуру Кукрыниксов или смешно переиначить Козьму Пруткова.
У Вадима получилось.
Как ему это удается?
Кажется, он применяет два способа:
1. То, что является художественным течением и методом, он использует как жанр. Создает произведения в жанре концептуализма. Ну вот как бы есть художники-анималисты и пейзажисты, а есть концептуалисты. Пейзажисты пишут пейзажи, а концептуалисты придумывают концепции. В этом жанре можно особенно не стараться – пейзаж может быть кривым и косым, но это все равно пейзаж. То же самое и с идеями.
2. Он по-своему использует такой традиционный для московского концептуализма метод, как персонажность. О персонажности много говорили в начале 80-х – например, Свен Гундлах и Илья Кабаков. Только у Вадима персонажем является художник-концептуалист. Этот художник соответствует всем клише: он, конечно, еврей, конечно, много пьет и, конечно, не умеет рисовать, а если рисует, то буквами или какашками.
Сочетание этих двух способов делает невозможное возможным: концептуализм предстает глупым, но симпатичным занятием для пьющих искусствоведов.
И это естественно: самое циничное и смешное пародирование священных текстов и ритуалов было в бурсе и иешивах, в среде, полностью погруженной в эту тематику и риторику. Так что кому, как не искусствоведу, пародировать святое искусство? К тому же это совершенно невозможно сделать без любви и таланта. А этого у Кругликова хватает.
Юрий Альберт
Я пока есть не буду.
Почему?
Я не ем, когда пью. Студенческая привычка. Я только закусываю.
А вот Веничка, чтобы не идти на военную кафедру, съел несколько пачек сырых пельменей.
А я не косил. Меня забрали после изгнания.
Что значит «после изгнания»?
Я попал в армию, потому что меня выгнали из института.
С какого курса?
Со второго.
За что?
За академнеуспеваемость.
В каком университете вы учились?
В Московском, история и теория искусствознания.
И вы его так и не закончили?
Нет. Студенческая жизнь в основном происходила по ночам и была настолько интересна, что днем ходить в университет было, во-первых, тяжко, а во-вторых, неинтересно.
За вас, Вадим. Пока я не напился, хотел задать вам первый вопрос.
Можно? У меня небольшая преамбула есть.
Да, пожалуйста.
Первое – запретных вопросов нету. Второе – преамбула кончилась. Пошли вопросы. Матом можно?
Можно. Мы, как иностранное издание, позволяем себе печатать также и мат.
Давайте вы зададите мне свой первый вопрос и, поскольку я курю, а в квартире этого делать нельзя, я вынужден ходить вон туда. Ну и подумаю над ответом.
Вряд ли вам придется так уж сильно думать над ответом, поскольку первый вопрос вами же и задан. Почему вы не черепаха?
(После возвращения.) Это предельно сложный вопрос. Иногда человека одолевают мысли: «Вот почему я, Кругликов Вадим Альбертович, не негр, родившийся в Судане в ХVI веке? Почему я не гомосексуалист из Китая? Почему я не марсианин? Вот почему я – это именно я?» Вы помните это детское состояние, когда вы вдруг осознали свое «я»? Было у вас такое?
Я однажды шел в детский сад и увидел, что идет снег. Это было в полвосьмого утра, я шел один и вдруг подумал: «Как прекрасно!» Я впервые осознал свою мысль как мысль.
Я тоже вникал в это «я». Оно у меня даже рисовалось в мозгу. Оно было оранжевое на желтоватом фоне. На Раушенберга немного похоже, как я потом узнал. Удивительно, что только один человек в мире может себе так сказать. Сказать-то может каждый, но только сам себе.
Сколько вам было лет?
Наверное, где-то семь или восемь. Это было в Ливадии. Помню: лето, я сижу на пригорке, расслабленный, кругом Ливадия, и я об этом мыслю. Сейчас я пойду покурю.
Хорошо. А я подумаю.
(После возвращения.)
И что же вы увидели тогда в Ливадии, кроме этого Раушенберга?
Ну, собственно, там было все. Мои боли, страхи. Уникальность и, как ни странно, уже тогда некую конечность. По-моему, именно тогда я и нашел марку. Я копался в земле и нашел марку – обыкновенный советский стандарт для почтовых отправлений, такие издавались дикими тиражами и никакой ценности не представляли. Но в нашем бараке – мы тогда жили в филармоническом бараке, там рядом была и автобаза филармонии – были двое старших ребят, которые собирали марки. Периодически они менялись. Это происходило очень смешно. Один из них, сын альтиста, спрашивал: «Трупы нужны?» Это значит знаменитые люди. Второй ему отвечал: «Нет». Они продолжали меняться, и через 20 минут опять звучал вопрос: «Трупы нужны?»
Вот и я решил, что надо тоже заняться собиранием марок – серьезные люди собирают марки. И когда я нашел марку, такую зашморканную, в земле, я подумал: «Так вот как собирают марки!»
Конечно. Ведь древнегреческое слово «собирать» и означает «понимать».
Нет, у меня такое абсолютно профанное отношение было к процессу.
А в вашей жизни было такое, что все могло обернуться иначе? Вот я помню: как-то я был у друга, мы долго пили, мне стало тоскливо, и я сел на подоконник. Ночью. Четвертый этаж, но высокий – в хрущевке был бы уже шестой. А из противоположного дома доносились русские песни. И я еще подумал, что, может, пойти туда… А потом заснул и проснулся оттого, что падаю. Но я выпал не в ту сторону, а в эту и ударился об пол. Тоже было неприятно, но не настолько, как было бы, если бы я выпал туда. Такая ситуация. И опять можно посмотреть на себя как на несостоявшуюся черепаху.
Когда мы уже переехали из Ливадии, я жил в Ялте, в самом центре, практически на набережной. По прямой до моря было метров сорок. Черьноморский переулок. Наш дом примыкал к Летнему театру. И там, за Летним театром, был такой закуток, где собирались... Там было плохое место, короче. Самый центр, там можно было напиться, трахнуться, уколоться, посрать, поссать и так далее. И естественно, мы с десяти лет это место активно посещали. Короче, там лежали какие-то конструкции для сцены, из труб сваренные. И как-то я там какал – такое место, почему не покакать? – и у меня перед лицом была эта труба, дальше – забор, а там уже город. И вот из этого города вдруг сюда, за забор, где я какаю, а попросту – сру, прилетает такая отвеса, граммов 300–400 весит, наверное, какие используются в строительстве. И этот отвес бьется об эту самую горизонталь трубы на уровне моих глаз и падает.
Какой-то Мондриан.
Ну да. Но он не бросался отвесами. (Смеются.) И тогда я задумался: что есть жизнь? Продолжая какать. Я не ожидал, что прилетит еще один отвес, минует эту трубу предо мной и долбанет-таки мне в лоб. Удивительная вещь…
Это уже можно назвать каким-то акционизмом. Здесь есть момент... Вы уже сделали начальный этап акции, и не хватало неожиданности, которая создает чудо.
Искусством это я еще не маркировал, поскольку я еще не знал, что такое акционизм. Мне было лет 11–12. И я так подозреваю, что тот человек, который бросил отвес... У меня до сих пор нерешенный вопрос. Во-первых, где он его взял? Отвес был старый, ржавый, не купленный. То есть он его где-то нашел. Но строительства там никакого не было.
А насколько болезненно было для вас осознать свою конечность? Вот я, помню, жутко плакал и не мог объяснить матери, в чем дело. А дело было в том, что я вдруг понял, что смерть не про других, а про меня.
У меня нет воспоминаний на эту тему. Все-таки смерть меня тогда не касалась. (Наливает.) Однажды – это ответвление, но формат позволяет – у нас была массовая пьянка в общежитии, человек девять участвовало. Это 80-е годы. Водка продавалась до семи. У Майка Науменко есть песенка «Вперед, Бодхисатва, вперед!», там все эти стадии описаны: сначала магазин, потом ресторан, потом можно еще после закрытия какое-то время к сторожу ресторана сходить, а глухая ночь – это уже только таксисты. И вот мы купили у них бутылку водки, и надо было ее на всех разлить. А тара была совершенно разнокалиберная. Вплоть до того, что кто-то пил из заварочного чайника. Пили из сахарниц, из чего угодно. Не было ни одной тары, которая повторяла бы другую. И я разлил. А кто-то засомневался – так мы нашли рюмку и у всех перемерили. Всем было поровну! С тех пор мой класс только повысился.
Замечательно! Приятно пить, сознавая, что налито по-братски.
Ну, возьмем! (Выпивает.) Это, кстати, ваши соседи эстонцы так говорят. Возьмем.В 78-м или 79-м мы туда поехали на майские праздники и закорешились, как потом выяснилось, с эстонской мафией. Совершенно случайно, на улице. Мы у них жили бесплатно. И они говорили «возьмем!».
Возьмем!
(Выпивают.)

Вот еще на эту тему. У нас была в университете массовая пьянка, по-моему, женился кто-то. Все начиналось в Москве, а потом надо было ехать на дачу на электричке. Можешь себе представить: человек сорок пьяных людей, бардак жуткий.Теряются люди, а с ними и вещи. Купить бухла негде. И вот мы оторвались от всех, у нас был дипломат с водкой, но не наш. А он с кодовым замком, там три колесика, по десять цифр на каждом, и мы знаем, что там водка. Мы страстно хотим ее употреблять, но это невозможно. А мобильных нету...
А чемоданчик откуда?
От кого-то из организаторов пьянки – возможно, даже жениха. Но его самого давно уже там не было. Это было что-то феноменальное. Мы, в жопень пьяные, решили перепробовать все варианты. Клянусь, я с третьего раза его открыл!
Да ладно!
Чтоб я сдох! И есть свидетели. Когда он открылся, была торжественная минута молчания. Потому что поверить в это было невозможно.
У нас был ужасный случай в Иванов день.
Это когда надо прыгать через костры?
Да. Все выезжают на природу, и мы выехали. Подготовка – пиво и водка. А один мой друг к тому времени уже подходил к черте алкоголизма: он за полчаса напивался практически вдребезги. Так вот, он подобрался к нашему запасу водки, взял бутылки и спрятал. Каждую в отдельное место. Чтобы потом, ночью, когда ему захочется, он...
А сколько их было?
Бутылок десять, а нас было человек двадцать. Нет, там были и девушки, которые не пили. Это не как с монголами. Я как-то пил с монголами, утром посчитал, что было больше 90 бутылок водки. Я поверить в это не мог.
А сколько было монголов?
Да восемь всего.
То есть они 90 бутылок выпили?
Ну да. Я, может быть, тоже одну выпил за всю ночь. Но я заснул и об окончании не могу свидетельствовать.
Слушай, это что-то феноменальное! Я с монголами пил, но это...
Ну, это силачи были. Мы еще ягненка съели. Но неважно. В общем, десять бутылок он спрятал, и так хитро спрятал! У пьяниц со временем появляется эта хитрость. Мало того, что через полчаса он заснул и никто не мог до него добудиться, так на следующий день он напрочь забыл, куда он их спрятал. Потом еще много лет в этом месте совершенно случайно находили бутылки с водкой.
Ты извини, я немножко перед твоим приходом уже выпил, поэтому я так... (Наливает.)
Хорошо, давай.
Мягко.
(Выпивают.)
Скажи, а когда ты познал сложность полового вопроса?
(После возвращения.) Дело в том, что у меня была очень чудовищная вилка: с одной стороны, я жил в Ялте. Курортный город, где секс, особенно летом, разлит просто...
По волнам?
В основном летом по набережной, которая – главная коммуникация. Так вот, вечером эта набережная превращалась в смотрины. Идет поток по правой стороне, и все рассматривают то, что движется по левой. Ходят и выбирают. Местные девочки снимали курортников, а местные мальчики – курортниц. Это я говорю о традиционной ориентации. Поэтому я, так сказать, с младых когтей существовал… У нас в классе были девочки, которые пали в довольно раннем возрасте – в седьмом, восьмом классе...
Жертвами этих курортников?
Не знаю, как там ситуация раскладывалась, но во всяком случае они уже не были девственницами. Ну и мальчики тоже где-то в этом возрасте. А я, с другой стороны, был таким забитым полуеврейским мальчиком, никогда не блистал физическими способностями, был трусоват. Моими козырями в этой ситуации могли быть скорее какие-то знания, потому что я беспрерывно читал огромное количество книг, которые были разложены по всему дому, раскрытые, в общедоступных местах – на телефонной полке, на холодильнике, на рояле. У меня на столе. Поэтому когда я, например, собираюсь в магазин и надеваю штаны, при этом можно почитать ту книгу, которая находится, допустим, на холодильнике или на телефонной полке – она у нас на кухне была, а выход через кухню. И значит, так вот я все время читал, читал... Но поскольку курортный город все-таки телесный, мачистский, там это не приветствовалось. Мои козыри не играли. Может быть, отчасти заиграли уже где-то с класса восьмого, когда отсеялась самая брутальная часть наших мальчиков, которые устраивали клавы номер 7, 8, 9...
Клавы?
Такие легкие издевательства. В нашем классе учился такой персонаж Савик. Савицкий. Он был небольшого роста и обладал хорошим, но простым чувством юмора. Он и придумал слово «клава». Клав было несколько. Клава № 7, например, это когда человека помещают в кабинку в туалете и сверху на него брызгают водой. Была клава № 6 – ей часто подвергали как раз меня. У нас был географический кабинет с оленьими рогами. И вот на перемене меня раскладывали на учительском столе, снимали с меня всю одежду до трусов, вешали на оленьи рога и так меня держали до прихода учителя. Приходил учитель, а я с рогов собирал свою одежду и надевал. А класс стоит смирно, никто не хохочет. Все нормально.
Клава № 6?
Это клава № 6, да. А когда клава делается, все должны петь: «Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу».
(Смеется.) Что же тогда было в более продвинутых клавах?
Была одна клава, когда человека просто клали на стол, как бы пилили ему расческой горло и пели песню о людях в белых халатах. Так вот, до седьмого класса я жестоко боролся с Валерой Скривченко за предпоследнюю ступень в нашей мальчишеской иерархии. Сейчас он попом служит.
Антисемитизма не было?
Нет. Вот мой папа в Свердловске хлебнул по полной. 22 июня 1941 года, ему было шесть лет, и девочка, с которой, как он говорит, они щупались, стучала к ним в дверь и орала: «Вот сейчас Гитлер придет и вас, жидов, убьет!». То есть у него 22 июня связано не с трагедией, а вот с этой непоняткой. Как же так? У нас же практически был половой контакт!
Щупались же!
Да. И вот – такое.
Понятно. Значит, в Ялте этого не было, и ты просто боролся за предпоследнее место в иерархии мальчиков.
Да. У меня шанса на какие-то сексуальные развлечения не было вообще.
То есть давали только мальчикам высшего ранга?
Ну конечно. Я не знаю, давали или нет, но у них существовали какие-то отношения с девочками.
Вечер танцев, например. Меня не приглашали на танец, а чтобы я сам пригласил кого-то – это невозможно. Это ужас! Когда объявляли медленный танец, это был пиздец просто. Я был закомплексованный, тихий... Еврейским мальчиком я себя не ощущал, но таким... Уебком, короче. Все то, что во мне существовало и что потом выстрелило, тогда еще никакого значения не имело, и для меня тоже. Ну прочитал я тыщу книжек, ну и что? А еще у меня был сосед по двору, Димсон. Это был такой акселерат, младше меня на год. Моя мама про него говорила: «Типичный пример акселерации. Яичко больше головы».
Дима был из простой семьи – папа водитель, мама бухгалтер. И ему все время хотелось ебаться. Ну и мне тоже. А у Димсона был старший брат. Тут важно сказать, что в Ялте было деление на молодежные группировки: например, вот это – чаевские, с Чайной горки, а эти – с Дерикоя. А эти – ливадийские. А мы находились в центре, и как бы ввиду такой расслабленной интеллигентности мы там не котировались. Ну с Аллейки, что там скажешь? Нас уважали, но...
Аллея – это...
Это такой проход за детским садом в сквере имени Гагарина, где как раз эта группа собиралась, мы курили и так далее. Но дело в том, что она была влиятельна именно потому, что она в центре. Во-первых, там не было мощной подписки, всего пара десятков человек.
Что значит «подписка»?
Они не могли вызвать большое количество бойцов. Если приходят дерикоевские, то это человек семьдесят. А что такое Аллейка? Правда, я им завидовал жутко, потому что там были могучие фигуры типа Саши Белого. Знаешь Сашу Белого? А Перца? А Хряпу? Эээ, что с тобой говорить!
(Смеются.)
При этом, конечно, в высшей иерархии были Шанаи или братья Чаны, старший и младший, не близнецы.
Тоже с Аллейки?
Нет, они не принадлежали ни к кому. Это были боги. Они, конечно, откуда-то пришли, но в итоге встали над структурами. Короли Ялты. Треугольник! Ой! Бред какой-то. Смешно все это. (Смеется.) У них был такой определенный способ коммуникации, намеренно тихая речь, но при этом специально очень утрированная артикуляция. Вообще изображение себя каким-то убогим, сгорбленным – это, конечно, высший класс был. Замерзший человек, который вот так говорит. Например, если перед тобой какой-то худой человек, то банальная шпана с окраины сказала бы: «Ну ты, дистрофик! Что ты тут менжуешься, козлина, блядь?» А как бы это произносил человек с Аллейки? «Ты, убогий, иди сюда!» То есть устало так...
Так вот, Димсон приносил от старшего брата какие-то бредовые легенды. Тот был старше его на четыре года, и когда у нас в классе седьмом начался пубертат и нестерпимо захотелось ебаться, мы сначала использовали всякие паллиативные способы.
Паллиативные – в каком смысле?
Ну, например, мы собирались у Димы и занимались совместным онанизмом. Мы ебали стулья.
(Смеется.)
Спинки были расположены вот так между собой, и туда можно было хуй засунуть. Еще у нас были попытки гомосексуальных связей. Правда, гомосексуализм мне не понравился. Допустим, когда я попробовал пососать Диме… Во-первых, это не вызвало никаких ощущений. Он абсолютно гладкий, там не за что зацепиться… В душ вместе ходили, я помню.
А! Еще была такая история. В летнем театре был внешний балкон, можно было залезть наверх, и ты возвышался метров на 15. И вот мы там сидели и ждали блядей. Опять же, какие-то абсолютно трансформированные мифы: где бляди? Бляди в Приморском парке. Там есть кусты, они там лежат на лежаках, хоть зимой, хоть осенью, с раздвинутыми ногами, уже голые, и ждут. Надо только их найти. И мы с Димсоном – брали еще с собой Мирошниченко Олега, Валеру Карнаушенко – шли и мучительно искали этих блядей. Лежаки мы в кустах находили – видимо, кто-то на них трахнулся и ушел. Потом у нас еще было представление, что бляди ходят вот так, носками внутрь. Потому что когда их поебут, им больно просто так ходить. И если ты встречаешь женщину, которая ходит вот так, то это блядь.
(Смеются.)
Эти мифы подростковые, это вообще чудовищно! От онанизма сифилис бывает – был еще такой миф.
Я помню ситуацию: осень, мы сидим на этом балконе. Театр на зиму закрыт. Вечер, холодно, и вдруг видим: идут две девчонки. И Димсон говорит: «Ну? Надо что-то делать!» А я интеллигентный человек, я не могу так сразу решение принять. Я, значит, думаю, а они через две секунды завернут за угол и навсегда исчезнут из нашей жизни. И Димсон понимает, что надо сказать им что-нибудь предельно важное, как в рекламе. И он с 15 метров кричит: «Девчонки! Ебаться будете?»
А они?
Они, по-моему, даже не услышали. Это такой вопль пубертатной души. Это длилось всю школу. Я, скажем так, пал во всех смыслах довольно поздно. И пить начал довольно поздно, и трахаться. Это уже другая история. Когда вдруг начали цениться совершенно другие качества: интеллект и – есть еще такое отвратительное слово – начитанность. Но это уже университет.
То есть отрочество кончилось и начались твои университеты?
Да. Но после армии я вернулся в университет уже в статусе некой местечковой легенды общежития «Дом студента» на Вернадского. Потому что тот курс, с которого меня выгнали, сильно занимался рекламой меня. Они говорили каждому новому курсу: «Вот погодите, вернется Кругликов, он вам покажет». Ну я и вернулся.
Из армии уже, матерый?
Ну да. Меня боялись. А я ничего не знал. Это уже потом я понял, в чем дело, и начал извлекать из этого дивиденды. Вот характерная картинка. Со своим новым курсом после восстановления я познакомился на картошке. Их автобус должен был подвезти с поля. И когда этот автобус подъехал, он накренился в мою сторону, потому что все побежали, чтобы на меня посмотреть.
Почему?
Потому что была легендарность создана. Но это все было чудовищно раздуто. Ну, я устраивал какие-то перформансы. Матрас выкидывал из окна, двери снимал... Дурака валял, короче. А у нас на факультете, поскольку исторический, была такая фраза… Знаешь, наверное, известную фразу Тельмана «Гитлер – это война»?
Ага.
А у нас она была с продолжением: «Гитлер – это война, а Кругликов – это пьянка». (Смеется.) Как только я появился в группе, мы там все упились в дым совершенно.
(Смеется.) И что же ты еще приобрел в своих университетах?
Прежде всего, конечно, я понял, что нет запретных вопросов. Высокий уровень интеллектуальности разговора.
С кем же ты разговаривал? Сам с собой?
Нет, со своими знакомыми. Мы же там пили очень много, а пьянка – это прежде всего разговор. Конечно, есть танцы, перформансы, еще черт знает что. Но это если чернуха. А если жанр камерной пьянки, как у нас сейчас, то это разговор, конечно. Причем я интеллектуально иногда довольно жестокий – я имею в виду не наезд на собеседника, а наезд на концепции, точки зрения и так далее. Споры – это просто норма. Хочешь блин?
Да, спасибо.
Галя мне сказала, что их нужно греть.А то она приедет и скажет: «Ты – козел».
Может быть, это правда?
Ну да, в общем, я козел.

(Смеется.) Есть такой писатель и певец Елизаров, у него есть песенка про то, что вот он проснулся однажды утром и обнаружил, что нету в нем больше козла.
(Кругликов, настраивая микроволновую печь.) Я заметил, что вещи, когда пьешь, живут своей собственной жизнью. Например, может потеряться штопор. Нет штопора, и все! Все обыскали. Вскрыли бутылку неизвестным способом. А потом штопор находится, причем в том месте, где его искали. Значит, он туда пришел.
Можно сказать также, что образуется некоторая прерывность во времени. Во время которой пространство изменяется.
Да. Пьянка – это вообще загадочное времяпрепровождение. Вот так вот собираются люди в одном месте, садятся друг напротив друга, начинают пить – и все. В чем смысл этого занятия? Причем иногда большими группами. Загадочное занятие.
А ты не замечал, что чем старше становишься, тем меньше группы?
Это да.
Ты как бы съеживаешься до того, что скоро будешь пить только сам с собой.
А я сам с собой пью практически всю жизнь. Я не избегаю этой формы.
Но тогда необходимо иметь четкое представление о себе. Когда по-русски говорят «пить с самим собой», предполагается, что нас как бы двое.
У меня – нет. Я в себе копаюсь. В себе одном. Сторонний взгляд, конечно, присутствует, но я бы не сказал, что он достигает такой степени интенсивности, чтобы его маркировать как второе «я». То есть я могу сам с собой разговаривать, иногда даже вслух: «Что ты, Вадимочка, об этом думаешь, козлина?» – и так далее. Но это разговор не двух моих «я», это все-таки я один. Это что-то чисто литературное, чему яркий пример Веничка, у которого, собственно, в такой форме и написано: «Беги, Веничка, беги!» Или: «Пей!» Или: «Не пей!»
А ты возвращался к вопросу «почему я не черепаха»?
Понятно, что я все время воспроизвожу его перед собой, представление о себе меняется. Это абсолютно динамическая структура.
Как ты определяешь смену своих «я»?
Изменением меня. Ведь тот человек, который отчаянно хотел ебаться, – это тоже я! Но в том мне не было меня нынешнего. А во мне нынешнем тот есть.
Если Мандельштам сказал: «Я мужчина-лесбиянец», то ты как художник – кто?
Я творческая единица, творческий работник, поскольку у меня есть историковедческое образование. Почему я стал искусствоведом? Потому что рисовать не умел. А к искусству тянулся.
Единица чего?
Ну если использовать совковые штампы. Я их очень люблю использовать.
У. е., условная единица.
Нет, это позже. Это уже не совок.
Правильно. Но мне очень понравилось.
Я-то люблю кондовый язык 70-х годов, оттуда все эти работники творческого фронта. Это красиво. Так вот, я как творческий работник, с одной стороны...
Нет-нет, извиняюсь, боец.
Все-таки «боец» и «творческий фронт» – это скорее к сталинскому времени относится. А «творческий работник» – это расслабленное брежневское время. Так вот, как представитель, с одной стороны... Как же они в массе-то назывались?
Творческая интеллигенция. У нас же были только крестьяне, рабочие и творческая интеллигенция. Других не было.
Нет, была просто интеллигенция. Забываем главное!
Кстати, я в этом месте хотел спросить: почему ты, собственно, встаешь не раньше 12 или часа дня?
Потому что я люблю ложиться поздно.
Так просто? То есть в этом нет ничего концептуального?
Абсолютно. Мне нравятся вообще ночь и вечер. Я терпеть не могу утро.
Интересно.
Одно из моих самых ярких воспоминаний: мы с одним моим приятелем, тоже алкоголиком, однокурсником моим бывшим (я какое-то время жил у него на съемной квартире) активно бухали.
Кто бы сомневался…
Помню: летнее утро, часов восемь, рабочее утро. У нас кончилась водка, и мы пошли к таксисту. Это перестройка была. И вот мы идем по разным сторонам улицы, ловим эти такси и спрашиваем, есть ли водка, а кругом вот эта утренняя рабочая суета. Люди ломятся, бегут быстро, набиваются в эти автобусы. Они торопятся на работу. А мы идем спокойно. Мы пьяные. Мы знаем, что мы сейчас купим водки, придем домой и будем эту водку употреблять. Под хорошую музыку, под умные разговоры. И будем получать удовольствие. Нам не нужно никуда торопиться. Это абсолютное несовпадение моих собственных ритмов и ритмов окружающей жизни: и солнце светит, и красота, и спокойствие в душе – вот это очень сильное и приятное воспоминание. Я бы хотел жить так вечно. Так что ничего концептуального. Кроме того, что ложиться поздно – это вообще, мне кажется, признак свободы. Значит, тебе не нужно вставать к определенному моменту. Я мало работал, когда нужно было приходить от и до.

Когда ты начал тянуться к искусству? Ты помнишь, как шел по улице и вдруг потянулся?
Понимаешь, у меня папа и мама музыканты. Принадлежность к этому клану была с детства. По умолчанию предполагалось, что я пойду по творческой линии. Но поскольку я оказался полным идиотом...
В каком смысле?
Сначала меня, конечно, хотели подпустить к роялю. Естественно, что еврейский мальчик должен играть на рояле, на пианинке, да?
Да, почему-то так принято.
Три года преподавательница ходила ко мне домой. Я бил себе молотком по пальцам, я их резал себе... При этом я, как папа говорил, обладал феноменальной музыкальной памятью. Когда мне было лень читать с листа, я говорил: «Папа, сыграй». Он садился, наигрывал, и я повторял. Короче, там нужна была усидчивость. А у меня ее не было. После трех лет музыкальных неуспехов я оттуда вынес ненависть к Черни.
К чему?
Карл Черни. Он, сволочь такая, гад XIX века из Австро-Венгрии, этюды придумал для учеников. Для детей маленьких. Чтобы мучить их, детей-то. Сволота! Подонок!
Ну вот, когда они убедились, что я в музыке полный дебил, они меня повели за руку в художественную школу. Художественные наклонности у меня были. Я еще в первом классе правильно рисовал крейсер «Аврора». Букву «р» только в другую сторону, а так все нормально.
И как развивался ваш творческий путь дальше?
Что, мы опять на «вы»?
Нет, это вопрос на «вы», а мысль на «ты».
Почему-то мне нравилось искусство изобразительное. По преимуществу, конечно, живопись.
Передвижники?
Нет. Передвижников я воспринимал как нечто абсолютно советское, поскольку они активно насаждались властью.Первая моя любовь – импрессионисты. Это, наверное, класс седьмой. У нас дома был альбом, собрание Пушкинского музея, там очень хорошая коллекция. И вот я начал читать доступные советские тексты, начал балдеть от их образа жизни. Богема! Это был пиздец полный.
Откуда ты знал о богеме?
Богему я наблюдал в виде папы и мамы.
Они были богемными?
Конечно! Я с молодых когтей ее наблюдал. Правда, я наблюдал ее в несколько смягченном варианте, потому что у нас в квартире не трахались. Ну, я имею в виду, когда гости были.
(Смеются.)
И так началась любовь к искусству?
Нет. Любовь к искусству была непреодолимая и более ранняя. Рембрандт, конечно, прекрасен, но то, от чего, как Галя говорит, барабанчики в душе бьют, – это были импрессионисты. Когда я приходил в книжный магазин на улице Рузвельта и там видел какую-то новую открытку импрессионистов, у меня трясучка начиналась. Я приносил ее домой, укладывал в определенное место, где она должна была лежать, и мне было хорошо. Все остальное время я играл в солдатиков. И чтобы сына от этих солдатиков как-то отвадить, папа с мамой поощряли мою любовь к искусству. Папа приносил очень хорошие книги. «Импрессионисты перед публикой и критикой» Рёйтерсверда. Я ее прочитывал и сразу начинал читать снова. Потом классе в восьмом он принес книгу «Модернизм: анализ и критика основных направлений». Вот это была главная ценность. Сто с лишним картинок. Там было довольно приличное изложение концепций, которые всюду ругались. И я охуел уже всерьез. Какие импрессионисты? Я увидел столько разных концепций того, что вообще есть искусство, столько разных способов, столько разных подходов к этому делу! Одно опровергает другое, и вместе с тем они существуют. Если серьезно, то импрессионизм по визуальности недалеко ушел от реализма XIX века. А тут совершенно все с ног на голову. Кроме того, нам говорили, что годами нужно рисовать, чтобы стать художником. А тут оказалось, что можно стать художником сразу. Мозгами работать надо. А это мне всегда нравилось гораздо больше, чем руками. Это чисто еврейское.
Что чисто еврейское?
Мозгами, а не руками.
Я думаю, что тогда и негритянское, пожалуй. Они тоже не любят руками работать.
А мозгами?
Ну, всякие есть.
Не, я понимаю, что мое высказывание тянет на шовинизм.
И я против любого, в том числе и еврейского.
(Смеются.)

Я же нахожусь в зоне анекдота. Если срать было бы физическим трудом, то мы бы наняли кого-то другого. Что-то типа того.
Но ты же себя не определил бы как еврейского художника? То есть эта еврейскость тебе не нужна нигде?
Абсолютно. Единственное, что тут есть удивительное совпадение, которым я собираюсь воспользоваться по приезде в Израиль. Ты знаешь, что иудаизм запрещает изображение человека?
Да.
Если ты видел портреты, которые я делал, и памятные места Москвы, там этот альбом есть, где я с натуры, опять же, как художник-идиот, меряю здание Московского университета на пропорцию, а потом пишу: «МГУ». Вот это ход, который абсолютно совпадает с запретом на изображение.
Изображения нет, а слово есть. Только нужно было написать в другую сторону: «УГМ».
Так нет, тогда я еще не был евреем, тогда я был концептуалистом.
(Смеется.) А, ну понятно. Но ты же все-таки художник, верно?
Я актер, который периодически изображает из себя художника. Например, в 90-е годы у меня во время массовых пьянок было две роли: бывший стукач-гэбэшник и гомосексуалист. Иногда в ходе пьянки я исполнял обе роли. Помню, была такая знаменитая галерея на Трёхпрудном. Тер-Оганьян, Кошляков, Дубосарский оттуда вышли. Там каждый четверг была выставка, после которой часть наиболее близких друзей и примкнувших перемещались в мастерские к художникам, и там продолжалась пьянка. Одно время там крутился американец Джеф. Из Сиэтла, помню, он был. Очень смешной парень. У него была девушка – наша, москвичка. Он, насмотревшись, что там происходило, по дороге с этой пьянки (в соплю пьяный, естественно) прямо на эскалаторе начал расстегивать ширинку и при этом представляться: «Я есть американский человек. Перформанс». И он оказался моим соседом.
Соседом – где?
Ну там, где мы бухали. Сначала я ему рассказывал, что я агент КГБ. Он все это воспринимал…
Серьезно?
Доброжелательно. Я его спросил, где он проживает и каким путем сюда добирался. Пообещал, что за эту информацию я ему заплачу. Он сказал, что летел из Сиэтла с пересадкой в Шанноне. Я за это ему дал четыре рубля. Сейчас это приблизительно семь копеек. Это был как бы первый гонорар. Он принял, значит, эти деньги, и я ему говорю: «Теперь ты наш. Дальше возможны повышения». А потом мне как-то надоело быть агентом КГБ, и я стал изображать старого гомосексуалиста. И он сразу поскучнел, быстро откланялся и ушел. Я ему говорю: «I’m an old gay», старый пидорас, мол. А еще я иногда подсаживался к людям на коленочки и начинал вот так...
Ой, Вадим. (Смеется.) Но, знаешь, я подумал: то, что ты делаешь, завязано на тебе же самом. Например, почему ты стоял на Красной площади с такой скромно прикрытой надписью «Путин?» на груди?
А это я прятал, понимаешь?На Красной площади уже было достаточно много важных акций: «Хуй» Осмоловского, его же «Голосуй: Против всех». Павленский.Бренер. Весь мой проект говорит о том, что в нынешних условиях открытый акционизм невозможен. Потому что заберут. А мне страшно. Я не хочу в тюрьму.
(Смеется.) Ну конечно.
Поэтому остается – что? А радикализм бурлит в организме. И вот поэтому я так: «Путин?» Страшно радикально, с вопросительным знаком слово «Путин» у меня на груди написано. И я это прячу. Или там «Бога нет».
И ты поэтому валишь в Израиль?
Нет, мне здесь просто уже противно жить, вот и все. Это очень долгий разговор. Если в двух словах, я не хочу жить в стране, в которой власть и народ совершают массу отвратительных действий, на которые я не в состоянии повлиять. Такой процедуры не существует.
Разве у тебя были иллюзии на этот счет? Ты всю жизнь прожил в ситуации, где ты не мог повлиять ни на народ, ни на власть.
Да, конечно. Я сформировался в брежневское время. Но тогда вся эта гадость воспринималась мной как некое явление природы. И родители при этом родились, и дедушки-бабушки большую часть жизни при этом прожили. И как бы ну вот такая жизнь. Зимой холодно, летом не холодно, у власти КПСС. Это вот в этом ряду. Как-то нужно было устраивать свою жизнь самостоятельно внутри этой ситуации и так далее. Но потом-то мы поняли, что все, оказывается, не так. И отличие XXI века от 1970-х в том, что тут идет это усекновение, наступление, отнимание, ужесточение, разводка, нагибание, наебалово и так далее. Кроме того, эта власть еще мерзее, чем та, которая была при коммунистах. Потому что по степени бездарности, пошлости и откровенного гопничества... Ну, это все-таки две разных власти. Хотя там тоже гэбэ существовало, и оно пользовалось гопническими приемами. Но это все-таки... Она была наследием страшной и монументальной утопии. При Брежневе были уже последние осколки, последний, утомленный извод, отчасти уже какой-то декадентский, вот этой утопии Сталина.
Утомленные солнцем.
Да. Страх вот этот. Страшная красота. Миллионы конным шагом, в едином строю. Советский Союз на уровне своих интенций – это все-таки футуризм. Там демагогия была: «Мы строим будущее». Здесь: «Мы строим прошлое». «Традиционные ценности» – это уже пиздец.
Все. Это приговор. Какое-то говнище. Мне надоело просыпаться и думать: «Путин». Ложиться и думать: «Путин». Жить и думать: «Путин». Меня он заебал. Причем меня заебала не только власть, но и народ. У них удивительная симфония. Я уверен, что никаких подлогов на выборах делать не надо.
Но самое главное... Не хочется, конечно, повторять эту Марксову фразу про театр и фарс. Короче, жить тошнее. Во-первых, я каким-то образом стал понимать, что существуют ситуации, существует жизнь, я отчасти эту жизнь проживал, когда от моего решения что-то зависело.
Это когда?
В девяностых.
Ну, от твоих решений зависело, кто пойдет за водкой.
Я имею в виду не это. Я имею в виду жизнь страны.
Да ладно! Ты был на баррикадах, что ли?
Нет, на баррикадах я не был, поскольку в 1991 году я был в Ялте, а не в Москве. Я, кстати, тогда упился и утром после пьяной совершенно ночи собрался ехать в Москву подавать в суд на КПСС. Вот прямо сейчас мне нужно было это сделать. Я пришел в кассу. Билетов прямо сейчас не было. В общем, поэтому я и не поехал.
Но там же рядом все происходило, если о путче.
Ты имеешь в виду его дачу?
Да.
У меня была мысль доплыть. Я потом смотрел съемки, там около километра.
Так это же ерунда!
Да. Но у меня был знакомый, военный юрист, который курировал строительство. Стройбат же строил! Я у него спросил: «Слушай, была у меня безумная идея приплыть туда к Горбачеву, чтобы он записал на видео свое какое-то обращение к народу. Я бы куда-то это спрятал и шмырк обратно кролем». Он говорит: «Вообще хорошо, что ты не поплыл. Пятьсот метров – и тебя бы не было. Потому что там водолазы, там электронная сигнализация в воде. Вообще там эсминец с электронной разведкой. То есть тебя бы просто пристрелили без разговоров».
Хорошо, что не поплыл по пьянке. Но собирался поехать в Москву и не поехал.
Я пришел в кассу, мне говорят: «Надо ждать». Я вышел, покурил, подождал, возвращаюсь, они говорят: «Еще нет». Ну, я думаю: «Хуй с ним, что делать». А у меня, главное, пить нечего. Нужно же поддерживать уровень алкоголя в крови. А это горбачевские времена, в магазине не купишь. Домой нужно возвращаться. Ну, я вернулся домой, у меня там был самогон прекрасный. Собственно, как-то застрял.
(Смеется.) Помню, у меня был такой случай. В Туве, когда все было по талонам, в 90-м году, мы снимали фильм, и у нас был ящик водки. Было много всяких приключений, мы застряли с машиной в реке, а потом оказались в маленькой сельской гостинице. И мы так замерзли, что выпили огромное количество этой водки. Местные это как-то учуяли, и к нам примчался сельский секретарь партии, тувинец, и попросил, чтобы ему тоже налили. В то время Прибалтика была уже на волне ухода из России, и я был энтузиастически настроен. Я сказал: «Откажись от своей презренной компартии, и я тебе налью!» Он тут же отказался.
(Смеются.)
Гениально! У меня зеркальная история. Моя мама работала в кино и часто из Ялты приезжала, когда я в университете учился. И жила тут в гостинице «Байкал», рядом со студией Горького. Я к ней ходил, мы выпивали и так далее.
С мамой?!
Ну да. Она, как киношница, пьет хорошо.
Я понимаю, но не с сыном же!
Почему?
Ну как-то... Непедагогично.
Но я же взрослый уже был. И как раз перестройка. Бухла нету, мы у нее все выпили, что-то у нее нашлось, и я за пять рублей типа киндзмараули купил в буфете.
Несерьезно.
Несерьезно. Короче, в лифте я познакомился с двумя грузинами, молодым и старым. Они мне назвали номер и говорят: «У нас канистра в машине».
Канистра чего?
Домашнего вина. Или чачи? Уже не помню. Короче, у них дохуища. Приходи и пей. Значит, мы с мамой допили, и я пошел к ним. Прихожу, все очень гостеприимно, и тут старый грузин говорит: «Я хочу тост поднять за товарища Сталина». Я говорю: «Я за него пить не буду». А он мне: «Если ты за него пить не будешь, уходи!» Я поставил стакан и ушел.
Принципиальный.
Да. А сейчас шлепнем.
Да. (Выпивают.) А я помню, как я в Алуште был в школе молодого философа, по-моему, в 89-м году. Устраивал все это комсомол Украины. Утром там были как бы лекции и обсуждения, но я очень скоро перестал на них ходить. И дальше в основном мы с девушками загорали и пили. Это как раз когда был принят этот закон по искоренению пьянства. И у нас тоже как-то все закончилось, и мы поехали по селам искать домашнее вино. Попали мы в село Изобильное, и название нас обнадежило. Мы решили, что там что-то должно быть. На центральной площади около неработающего фонтана сидела бабушка, и мы ее спросили, можно ли здесь купить вино. Она говорит: «Ну что вы, ребятушки! В Изобильном нету. Поезжайте дальше, там есть Красный Партизан, там вы, может быть, и купите».
Самое гениальное название населенного пункта, которое рядом с Алуштой, – это Красный Рай.
(Смеются.)
У меня там девушка жила. Я там бывал. Может, это и байка, но все эти названия: Цветочное, Земельное, Замечательное – как это все в Крыму изобреталось? Это результаты депортации. Все эти названия до того были татарскими. И когда татар всех – вжик! – их заперли, этих мудаков партийных, и сказали: «Блядь, вы, суки, не выйдете отсюда, пока вся карта не приобретет советский вид!» Вот они и придумывали. Там фантазия блещет! Орлиное, Соколиное, Перевальное...
(Смеются.)
Слава-те господи, хоть что-то оставили. Инкерман, например.
Так есть же марка вина инкерман. В Москве продается. Но ты не пьешь, наверное, вино.
Иногда пью. «Инкерман» – неплохая контора, но на крымском уровне, конечно. Лучше всего была «Массандра».
У нас как раз начали продавать крымскую массандру, но тут случился «крымнаш».
Я сейчас не покупаю ничего крымского. Я не могу туда, на родину свою, поехать.
То есть Крым – наш, но не твой?
Абсолютно. Хотя благодаря этой всей истории я наконец получил российское гражданство.
У тебя не было российского гражданства?
Нет.
А какое же у тебя было?
Украинское. Я здесь, не выезжая, мгновенно, за два визита, получил паспорт. Мы наконец поженились с моей женой. Мы этого не могли сделать 14 лет. Я наконец получил загранпаспорт, получил возможность выезжать за границу! Я, кроме Армении и России, не был нигде за границей.
Но все равно Крым не твой?
Нет, ехать туда я не могу. Когда я увидел кадры... Во-первых, когда эти сведения первые поступили, самый конец февраля 2014 года, когда там появились эти зеленые человечки, я сразу понял, что это значит. У меня такое было! Мы напились с женой в жопень, конечно. Наебенились со страшной силой. Потому что все было понятно. Было понятно, что мы вступаем в абсолютно новую жизнь, будет что-то совершенно другое. И когда я потом увидел кадры на YouTube, как российская военная машина по улицам Ялты едет... Блядь, она по моим улицам едет! Вот по этим!
Может быть, на том же метафизическом уголке за театром остановились и посрали, где ты...
Да не в этом дело. Вот это называется оккупанты. Эта грубая, темная сила, тупая. Она по этому тонкому миру воспоминаний... Она туда влезла. И как после этого туда ехать?
Хорошо, вернемся к искусству.
Вернемся. Но сначала – шлепнем.
Обязательно. Возьмем. (Выпивают.) Взяли. Продолжаем.
Я недавно написал, что художников честных не бывает.
Видел.
Это и по поводу классических художников, которые имитируют реальность, и по поводу, скажем так, постмодернистов, к которым я себя отношу. Я такой концептуалист постмодернизированный. Потому что они все равно не от себя говорят, а от персонажей высказывания.
Да, да, да.
В данном случае мой персонаж – это такой кретин, идиот, который считает, что он модернист. На самом деле он абсолютно совковый человек. Отчасти это совпадает с моей личностью. То есть этот персонаж – это такой человек, который в принципе воспитан в традиционных представлениях об искусстве, но который считает себя таким жутким модернистом. Вернее – авангардистом. Ну вот, рисовать не умеет.
А когда появился этот персонаж?
Ой, очень давно. Он постепенно созревал, начиная, наверное, с тех пор, как я осознал себя художником, – это конец 1980-х. Я начал делать картины, где через трафарет набивал какую-нибудь надпись. Но этот-то персонаж знает, что картина только с надписью – это какая-то хуевая картина. Картина красивая должна быть. Поэтому я стал украшать ее бижутерией. Цацками какими-то, кружевами, всякой хренью. Сейчас я придумал еще одну примочку. Художнику часто говорят: «А почему у человека нос синий?» «А я так вижу», – говорит в ответ традиционный художник. А у меня другая отмазка: «Так получилось».
Скажи, не возникает ли у тебя вопроса о самом себе как о человеке, который создал этого персонажа? Ты сам – какой персонаж?
Сложный вопрос. На самом деле если не называть меня этим персонажем, а говорить просто о том, кто я по паспорту, то, наверное, это довольно грустный человек.
Грустный?
Да. Вернее, печальный. Потому что жизнь не подает каких-то особых поводов для веселья. Что такое веселый человек? Это человек бездумный. А жизнь – это тяжкий труд. Чего веселиться-то? Над этим можно смеяться, безусловно, и может создаться впечатление, что я человек веселый. А на самом деле нет. Я самоироничен. Но не весел. Чтобы не заебывать окружающее население своей тоской, я довольно много шучу.
У тебя есть размышления на тему о том, что такое настоящее искусство, а что – ненастоящее? Если я кому-то тебя предъявлю как искусство, он может сказать: «Ну что ты? Искусство в Третьяковской галерее. А это хрень какая-то».
Был такой румынский художник Корнелиу Баба. Он сказал, что настоящее искусство должно будить мысль. Это запало мне в память. А через какое-то время Юра Альберт сказал похожую мысль: что настоящее искусство должно порождать проблему.
Ты сказал, что ты печальный человек. Но там, где ты действуешь, начинается совершенно другая жизнь. Искусство не только отражает размышления, но и само является мирообразующим элементом.
Безусловно.Допустим, импрессионисты научили европейскую публику по-новому видеть мир. Видеть, что снег на самом деле не белый, что он зависит от освещения, от погоды, от огромного количества факторов. Они как бы открыли этот мир и отчасти создали новое его восприятие. Современное искусство еще более действенное в этом смысле. Потому что оно порождает огромное количество новых идей. Феминизм, права человека – это все утверждается современным искусством и таким образом укореняется в массовом сознании. Современное искусство меняет мир и создает способность по-новому, незамутненным взглядом на него смотреть. Осмоловский совершенно верно говорил, что оно готовит человека к тому, что мир вообще-то трагичен. Современное искусство готовит человека к проживанию в таком мире. Причем иногда очень непосредственно и жестоко. Кулик, бросающийся на автомобили, – это же страшно! Человек едет-едет, и вдруг у него на капоте оказывается какой-то безумный голый Кулик, который бьет лбом в ветровое стекло. Вот это образ мира. Кроме того, современное искусство учит человека мыслить. Отделять, грубо говоря, красоту того, как самолет врезается в небоскреб, от того, что в результате этого происходит. От трех тысяч жертв.
Как оно это делает?
Путем говорения о том, что жертвы – это одно, а картинка в телевизоре – это совсем другое. Более того, эстетическое отношение – это на самом деле защита организма от ужаса.
В каком смысле?
Видя, как самолет врезается в небоскреб, ты немедленно переводишь это в разряд эстетики, чтобы не думать об этом кошмаре. Ты видишь перед собой кино.

Но ты же сказал, что современное искусство взывает к мышлению. К тому, чтобы поддерживать человека в состоянии живой мысли.
Безусловно. Но современное искусство, как любое многомерное и богатое явление, развивается по нескольким дорожкам. Это одна из дорожек. Ужас и желание спрятаться. Другая дорожка – анализировать. И то, что мы отделяем эстетическое от этического, – это та самая умственная операция, которая в Европе, допустим, имеет достаточно долгую традицию.
Скажи, какое самое выдающееся произведение твоего искусства?
Я не знаю, мне многое нравится.
(Смеется.) Мне нравится твоя скромность.
Это во мне, конечно, персонаж опять бунтует. Да черт его знает. Ну, удачной процентов на 80 я считаю выставку «Правда еврея». Говенная выставка мне очень нравится. Когда я говном пейзажи Лондона делал.
Тебя устраивает, что тебя называют концептуалистом?
Это не совсем точно, но я понимаю, что как-то меня называть надо. Это не сильно противоречит тому, кто я есть. Наверное, я все-таки не концептуалист, а постмодернист. Но это более расплывчатое понятие.Тем более что мой постмодернизм все-таки существует на основе московского концептуализма. Вот Гельман меня представлял так: «К нам приехал концептуалист». Ну и нормально. Концептуалист приехал.
(Смеются.)
Давай, тут нужно взять.
Мягко.
(Выпивают.)
Дело в том, что с самого начала своей арт-деятельности, еще в университете, когда мы называли себя неодадаистами, главное, что нам нравилось в искусстве, – это эпатаж и абсурд. Абсурд как средство эпатажа. Поэтому мы дадаистами-то и были. Нам нравилось шокировать совковую публику. Мы рассчитывали только на понимание своих людей. Это такая игра. Мы ставим зрителя в ситуацию выбора: либо ты с нами, либо ты идиот. Очень просто. Наверное, это во мне осталось.
Главная задача моего искусства – бесконечное переиначивание, перевертывание мира, его смыслов. Это может быть абсолютно бессмысленная игра. Вот я шел сегодня, увидел вывеску «Бургер Кинг». Я подумал так: «Бургер Книг». Абсолютно бессмысленная игра с понятиями, которая на самом деле имеет глубокий смысл. Эта игра делает мир неустойчивым, изменчивым, неустоявшимся, незакосневшим – таким, каким он изображен в карнавализме Бахтина. Я все время подвергаю мир и сознание зрителя некоему экзамену на отзывчивость к этим изменениям, к необычности того, что я делаю. Я все время дергаю мир за торчащие из него нитки. Он от этого дергается, где-то там переворачивается, что-то падает в нем, происходят какие-то события и так далее. Реакция зрителя должна, с моей точки зрения, быть такой, чтобы соглашаться с этим. Там все время что-то происходит. Это не «ах, пейзаж!», когда ты увидел пейзаж. На самом деле я понимаю этот зуд традиционного художника, когда он видит что-то прекрасное и его тянет это зафиксировать. Но это чисто внешнее отношение к миру, мне кажется. Там можно и внутреннее, конечно, что-нибудь найти – состояние какое-то, психологизм пейзажа. Но это не есть вторжение в этот мир, не есть его переиначивание. А я все время переиначиваю что-то.
Если бы ты был скульптором...
А я скульптор!
В каком смысле?
Я только что сделал огромную двухметровую скульптуру. Отпечаток следа древнего черногорца. С тремя пальцами и с когтем.
(Смеется.) Я к тому, что для скульптора, который стремится очистить художественную форму от лишнего, это и есть мастерство. А у тебя чувствуется огромная необходимость в публике.
На самом деле это концептуалистская проблема: существует ли искусство без зрителя? Вот вышел человек, совершил перформанс, все посмотрели акцию до конца и ушли. А после этого появился еще один человек и что-то сделал. Но никто этого не видел. Это искусство или нет? Московские концептуалисты это обсуждали часами, потому что концептуальное искусство – это еще и вечные разговоры. Это абсолютно полноценная часть московского концептуализма. Чего, кстати говоря, в классическом концептуализме нет. Они обыгрывали как раз отсутствие зрителя, замкнутость своего мира. У них мастерская, выставочный зал и конференц-зал были в одном помещении. Зритель, конечно, нужен даже в том случае, когда его нет. От этого отталкиваясь, можно уже сознательно делать работу, где нет зрителя. Но такая конструкция может возникнуть, если ты до этого делал работы, где зритель необходим.
Вот мой покойный приятель Кусков, искусствовед и немножко художник, однажды сделал перформанс. Еще в советское время. Мы пьянствовали у одного парня, такого достаточно прикинутого. У него дома были иностранные вещи, в том числе в ванной какоето количество парфюмерии, французские духи. Бухла было немерено. Тем не менее Кусков посреди пьянки исчез на какое-то время, а потом вернулся. На следующий день выяснилось, что он заперся в ванной, выпил весь французский парфюм и налил туда воды из-под крана. Зачем он это сделал? Этого никто не видел. Он сделал абсолютно чистую акцию, не виденную никем. Он, кстати, когда вышел из ванной, мы танцевали. А у них была собака. Она ко всем так равнодушно относится, а на него гавкает. Видимо, почувствовала по запаху, что его женой пахнет.
Или разбиралась в искусстве.
Нет, она в парфюме разбиралась.
(Смеется.) А у нас был такой случай. Я жил в общежитии в Риге. И пиво было трудно достать.
И у вас тоже?
Да. Если где-то оно появлялось, это было целое событие. И вдруг кто-то говорит, что в магазине дают пиво. «Рижское», в маленьких бутылках.
«Чебурашки» назывались.
Да. И мы помчались туда. Помню, на троллейбусе надо было ехать. Купили все что могли и с этими сумками вернулись в общежитие. Начали выставлять пиво на стол, и для нас было чрезвычайно важно, чтобы это пиво заполнило всю поверхность стола, бутылка к бутылке. Нам было важно увидеть этот памятник нашему пьянству. Это была радость не оттого, что мы сейчас напьемся в стельку, а радость события. Так в чем же разница между искусством и подобными действиями?
Если бы вы трактовали этот стол как произведение искусства, если бы оно было признано экспертным сообществом, оно бы стало произведением. Была очень похожая работа Тер-Оганьяна, она называлась «Море водки». Это просто огромное количество рюмок с водкой на столе. Правда, там у него был пейзаж моря, но главным, конечно, было счастье. В вашем-то случае никаких дебатов бы не было. Это чистой воды инсталляция. Море пива.
(Смеется.) А ты считаешь, что находишься на передней линии искусства? Или ты довольно боязлив, если судить по тому фото, где ты запечатлен стоящим на Красной площади и скромно приоткрывающим маечку с надписью «Путин?»
Дело в том, что опасаться репрессий за свое искусство – это не характеристика самого искусства. Я просто уже человек в возрасте, я к чему-то привык, я это воспроизвожу. Вообще художников, которые все время кардинально меняются, достаточно мало. Навскидку приходят на ум двое – Пикассо и Осмоловский. В основном человек работает в рамках того, что он сделал в 20–30 лет. Там происходит какая-то разработка тематики, формальных приемов и так далее. А чтобы принципиально новое, это редко.

(Входит Галина.)
Галина: Добрый вечер.
Кругликов: О! Это Галя.
Очень приятно. Улдис.
Галина: Боже, как сложно. Простите, если я буду коверкать. А вы обеспечены или вам еще чего-нибудь сбацать?
Не надо. Огромное спасибо за блины. Я допускаю, что их не Вадим готовил.
Галина: Да, мы все распределили поровну. Вадим убрал квартиру, а я приготовила. У нас партнерские отношения.
Кругликов: Слушай, Галь, я, естественно, все сделал не так, как ты говорила.
Галина: Но ест же!
Ест, ест, вполне. И даже не знаю, хорошо ли это.
Кругликов: Я сломал программу. Да, два отступления. Это у нас интервью называется. Я должен говорить бесконечно, купаться в своей любви к себе...
Так вот, существуют, конечно, некоторые непонятки в определении, что такое современное искусство, но в принципе все как бы договорились. Современное искусство началось в 60-е годы. Поп-арт, фотореализм, концептуализм, хэппенинг, перформанс. Человек, который использует эти стратегии, уже по факту является современным художником.
А тот, кто рисует, как когда-то, тот не является?
Кругликов: Отчего же. Дубосарский, опять же. Это, скажем так, имитационная живопись. Она имитирует соцреализм, при этом впендюривая туда абсолютно несоцреалистические сюжеты. И в этом как бы фишка. Они этот проект начали году в 94-м. Картина, особенно в таком соцреалистическом изводе, вообще у нас в современном искусстве московском не существовала – все делали объекты, инсталляции, перформансы, акции. Народ был крутой. Картина воспринималась как тяжелое наследие соцреализма и совка. А эти два идиота (Виноградов и Дубосарский. – Ред.) предлагают вот такую крупноформатную живопись – да они и не умели ничего другого, кроме как рисовать действительность как она есть. И вот они пытаются вписаться в рынок, который захвачен современным искусством, этими, блядь, акционистами. Первая работа, которую они, по-моему, сделали на заказ, была от немцев, на выборы Шрёдера – там какие-то ангелы летают вокруг него, ну, счастье, пиздец полный. А потом картины для новых русских, любые фантазии – с голыми девками, которые раком стоят в полях, это счастье. Они как бы имитировали художников, которые готовы были сделать все. «Ваша фантазия – наше исполнение».
Раком встать готовы.
Кругликов: Нет, поставить.
Галина: А это уже сексизм.
Кругликов: Нет, раком встать – это не сексизм.
Галина: Почему не сами раком стоят, а только натурщицы? Сексизм! Несправедливость кругом вообще!
(Смеются.)
Ну так об этом и говорить нечего. Все заведомо несправедливо.
Кругликов: Короче, вот такой проект. И он сработал. Фантастически совершенно. Но сам я себя называю дадаистом. Дадаизм по большому счету – это предтеча постмодернизма. С одной стороны, это приятие всего, что происходит, а с другой стороны, это грубость по отношению к тому, что принято.
Но есть же и другие направления, которые занимаются грубостью.
Кругликов: Да. Но вот это удивительное соитие уничтожения и воспроизводства – это то, чем мне дадаизм нравится. То есть вообще пошли все на хуй. Но при этом мы делаем что-то свое. Вообще понятий дадаизма много, но если все в кучку собрать, то получится вот это. Короче, Бахтин. Карнавальность.
Бахтин – это пошло.
Кругликов: Да. Зря я сморозил.
Галина: Да ладно тебе, господи.
Кругликов: Блядь. (Наливает.) Взяли.
(Все выпивают.)
Кругликов: А! Вспомнил! Я же еще не рассказывал про латышского дадаиста Модриса Справникова.
Расскажи, пожалуйста. Это в армии было?
Кругликов: Саратов, 1980-й. Стройбат.
Тебя прямо в стройбат забрали?
Кругликов: Я сам туда попросился. Кроме того, я заметил, что была тенденция отправлять туда бывших студентов. Какие-то они, понимаешь, хуеватые. Ненадежные. Лучше их куда-нибудь кирпичи ворочать, а не в танкисты, допустим.
Так каким образом латышский дадаист повлиял на твою дадаистическую карьеру?
Кругликов: Никак не повлиял. К тому времени я уже был довольно состоявшимся дадаистом. Просто есть дадаизм как направление в искусстве, а есть дада как некое состояние духа. Как отношение к действительности, как способ мышления и проживания жизни.
Короче, стройбат. Дембель неизбежен, как крах капитализма. У меня был однополчанин Модрис Справников, который жил где-то около Риги. У него в Риге проживала сестра. По всей видимости, жила она где-то в старой части города, что следует из описаний перформанса, который устраивал Модрис Справников, будучи еще школьником. Когда сестра уходила на работу, Модрис в рабочее время суток любил немножко посидеть у окна. Окно было большое, на первом этаже. И когда мимо проходили люди, Модрис активно изображал мало что понимающую обезьяну. Наверное, это производило не очень хорошее впечатление на жителей района, потому что через некоторое время сестра начала спрашивать у Модриса: «Модрис, а когда я на работе, ты вообще что делаешь?» Он говорит: «Книжки читаю». «Слушай, – говорила сдержанная сестра, – а не проводишь ли ты свой досуг у окна?» «Нет, – говорил Модрис. – Так, подойду, выгляну – и назад, чего там».
Это он мне рассказывал уже потом. А впервые я столкнулся с его дадаистической деятельностью, когда мы лежали в госпитале. Я не помню, с чем лежал Модрис, я лежал вот с этой штуковиной, вот шрам. Старшина роты мне молотком в морду бросил.

Вот. В Ялте бросил, а в Саратове попал…
Кругликов: Ну да. И мы лежали в одной палате, лето, жарко, у нас окно было открыто. Все время сквозняк, и дверь открывалась, причем не просто открывалась, а с чудовищным, медленным скрипом. И в конце концов Модрис – а он был человек с абсолютно спокойным, обтекаемым профилем, каплевидным...
Еврей?
Кругликов: Нет, каплевидность в том смысле, что там не было никакой экспрессии. Там ничего не высовывалось. Все как бы книзу. У него лицо какое-то никакое. На него посмотришь и не скажешь, что он Модрис Справников. Можно сказать, что вообще непонятно кто. А он Модрис Справников! Это было довольно унылое существо, предельно неэмоциональное и спокойное. И вот, значит, это существо лежит, дверь скрипит-скрипит, и в конце концов он делает так: достает из-под головы подушку (а дверь вовнутрь), кидает ее в эту дверь и тут же встает за подушкой. В тот момент я понял, что он дадаист. Потому что он совершил абсолютно бессмысленное действие.
Галина: Избыточное. То, что есть искусство.
Кругликов: Да.
Которое из них? То, что подушку бросил, или то, что потом встал?
(Смеются.)
Кругликов: А у него, знаешь, как у обезьяны, нету... Она настолько пластична, что нету...
Перехода?
Кругликов: Да. У него это было одно движение. Так – и пошел. И еще он сказал такое очень спокойное латышское ругательство. Видимо, мягкое. Это безусловный дадаист. Человек, который совершает действие, отрицающее это же действие. Гениально.
Потом он совершил таких действий еще массу, но я запомнил одно. У меня были деньги, а у него были связи. Он мне предложил их совместить: «Давай покупать спизженный нашими солдатами хрусталь!» Там, в Саратове, был производственный комплекс, который делал оптику для войны. А для граждан делал какой-то хрусталь. И там трудились наши солдаты, которые могли пиздить нешлифованные отливки. Говно полное. Но Модрис меня убедил, что в Риге это пойдет на ура. То есть мы покупаем за 20 рублей вот такую салатницу на четыре литра, а там продаем за 70. Транспортировка – копеек 30, если массой отправлять. Он все рассчитал. Хорошо. Я вошел в долю. Мы накупили какой-то хуйни рублей на 130. Модрис заховал все это у себя под кроватью. Там это хранилось у него месяца три. Я его периодически спрашивал: «Модрис, ну и как наш бизнес?» А в советской системе – чему армия яркий пример – было такое понятие, как кампанейщина. И вдруг в нашем батальоне началась кампания борьбы с закутками, скажем так. Все эти пендешки, закутки, сторожки, инструменталки... Как их? Галя, куда я тебя отправлял?
Галина: В подсобку. Всех нормальных на хуй посылает, а меня в подсобку.
Кругликов: Вот все это инспектировали. Чтобы там никаких кипятильников не было, ничего. Ну и под это дело, конечно, всю нашу посуду за 130 рублей ликвидировали.
(Смеется.) И это дадаизм?
Кругликов: По-моему, типичный дадаизм.
Галина: Нет. Это обычное распиздяйство.
Кругликов: А ты можешь определить, что такое дадаизм?
Галина: Не могу, но это не концептуально. Давай тогда все называть дадаизмом.
Кругликов: Дадаизм – это что-то, что бесконечно отрицает само себя.
Галина: Подожди, ты вот вымыл пол, а потом опять насорил. Это что, дадаизм, что ли?
Кругликов: Если сознательно, то да. Это дадаистическое отношение, наплевательское. Даже не дадаизм, а дада скорее. Дада как состояние духа. Как некое отношение к миру, к действительности. Как способ мышления, как способ проживания жизни.
Но это никак не связано с русской лексикой – «да-да»?
Кругликов: У них куча манифестов, и в одном из манифестов существует такая фраза, что «дада» – это двойное утверждение в русском и румынском языках. Вообще связь с русским искусством у дада очень сильна – Кручёных там, Кандинский. Но речь не об этом. Я говорю о даде как об искусстве проживания в мире. Абсолютно, кстати, экзистенциалистской, атеистической.
Дадаизм – экзистенциалистский атеизм?
Кругликов: Да. Это Сартр, безусловно. Кстати, Сартр и говорил, что его метод происходит во многом от дадаизма. Потому что дадаизм признает конечность, бессмысленность всего, что существует. Кстати, сейчас у нас, мне кажется, как раз время дада.
У нас – это где? В России?
Кругликов: Да. Брежневское время тоже было временем дада.
Потому что он вообще не мог говорить? Только «да-да-да»?
Кругликов: Нет. Анекдот вспомнил.
Ночь, сидит в приемной ЦК какой-то клерк, и звонит Брежнев. (Имитирует неразборчивую речь Брежнева.) «Леонид Ильич, простите, я ничего не понял». (Имитирует неразборчивую речь Брежнева.) «Леонид Ильич, извините, ничего не разобрал». И с того конца в итоге отвечают: «Передаю по буквам: Мазуров, Устинов, Демичев, Андропов, Капитонов».
(Смеются.)
Галина: А смысл-то в чем? Чего звонил-то?
Кругликов: Ну, это маразм. (Голосом Брежнева.) «Товарищи! Хочу коечего сказать. Вот на нашем последнем заседании ЦК, когда умер товарищ Кириленко и заиграла музыка, один я догадался пригласить на танец даму».
(Смеются.)
Кругликов: Вот эти последние анекдоты, которые описывают крах империи... Блядь, полная неспособность.
Это уже было похоже на непрекращающийся дамский танец, да.
Кругликов (смеется): Давайте выпьем за что-нибудь позитивное.
Галина: А я все время пью.
Кругликов: А за позитивное? Что у нас позитивное? Знак плюс у нас позитивный.
Галина: Опять. Кругликов, ты не любишь, когда тебя перебивают, правда? Ты мне всю плешь проел, говоришь, что я перебиваю тебя. А ты меня сам постоянно перебиваешь.
Кругликов: А я интервьюер... То есть интервьюируемый, блядь.
Галина: Ты уже раз 15 перебил.
Кругликов: Я вообще на хуй послать могу всех! Выгнать к ебене матери!
Галина: Ты сука последняя!
Кругликов: У меня, блядь, позиция премиум-плюс.
(Смеется.) Выпьем за плюс.
(Выпивают.)
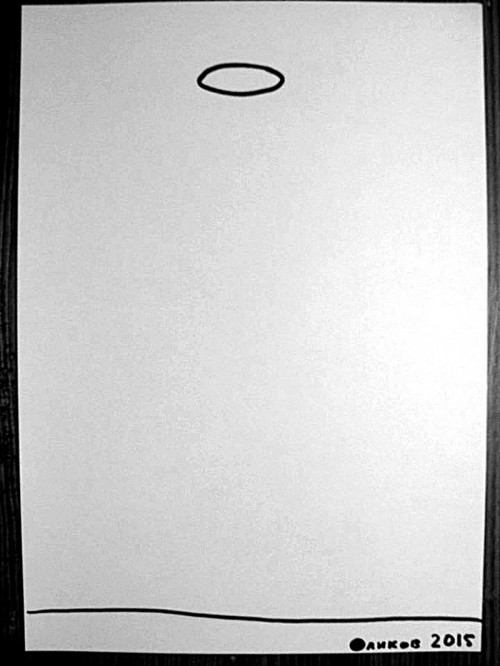
Галина (приносит пепельницу): Радуйся, Кругликов!
Кругликов: О! Жизнишка началась! Вот сейчас начнется самое лучшее.
Галина: Самый позитив. Твой проект к какой цели стремится вообще?
Ну чтоб в мире было немножко больше ясности и меньше глупости.
Галина: Слишком широко все-таки. Нужно сужать.
Это правда. Но если сужать, то это чтобы освободить всех чувствующих существ в мире.
Галина: От чего освободить?
От перерождения.
Галина: От чего? От перерождения?
Ну да.
Галина: Ты чего, буддист?
Нет.
Галина (смеется): Имитируешь?
Шучу. То есть мне трудно ответить серьезно на такие вопросы. Проект... В общем, цель довольно эстетическая. Красота в таком смысле...
Галина: Традиционном?
Да, греческом. Красота, добро, и все это как высшая ступень того, что мы можем помыслить.
Галина: Нерасчлененная этика и эстетика?
Кругликов: В том смысле, как у греков, – да. В своей статье я пишу, что сделался современным художником, потому что с радостью обнаружил, что можно, оказывается, сделаться художником, не умея рисовать. На самом деле это, конечно, отчасти чушь, ирония. Самоирония. На самом деле, чтобы стать современным художником, нужно прочитать несколько контейнеров книг. То есть это другого рода деятельность, если ты понимаешь.
Нет, не понимаю. Какая разница? Стать современным читателем тоже можно, если прочитать несколько контейнеров книг.
Кругликов: Читатель не производит ничего, никакой продукции.
Хорошо. А как из чтения книг может производиться продукция?
Кругликов: Я тебе могу описать свой творческий процесс.
Да, это было бы замечательно.
Кругликов: Вот на примере той работы. Я иногда их обдумываю десятилетиями, прежде чем сделать. Последние несколько месяцев я обдумываю такой проект, такое произведение: как мне разрушить понятие диптиха?
А зачем его разрушать?
Кругликов: Дело в том, что искусство начиная с XX века бесконечно подвергает сомнению собственные устои.
Да. И что?
Кругликов: Искусство со времен Дюшана, со времен писсуара, задается вопросом: «Деятельность, которой мы занимаемся, – это что? Что такое произведение искусства?» Я думаю о том, я кто такой в мире. Моя деятельность – это что такое? Под классические понятия о том, что такое художник, это не подпадает. Тем не менее эта деятельность существует, каким-то образом компилируется в музеях, коллекционируется, покупается, существует в обороте. То есть это и бизнес, и масса личных амбиций, если говорить о художниках, и так далее. Это огромный пласт культуры. Ямпольский предложил говорить не об искусстве, а об антропологических практиках. То есть это некое занятие, которое может служить (а) представлениям о прекрасном и (б) изживанию собственных комплексов. Общественная терапия.
Кто занимается общественной терапией?
Кругликов: Путин.
(Все смеются.)
А, он тоже художник.
Кругликов: Конечно.
Галина: Ну, это какое-то социально ориентированное искусство. Политическое. Феминистское какое-нибудь искусство.
Кругликов: Да. Протестное.
Галина: Как у Павленского.
Кругликов: Да. Если маркировать все это как искусство, то просто уже крыша едет.
Галина: И не обязательно. Шире можно.
Нет, наоборот, как у Достоевского: нужно сузить. Слишком широк русский человек.
Кругликов: Поэтому я предлагаю хотя бы в параметрах нашей беседы за искусством оставить тот проект, который начался в Ренессансе и закончился, в общем-то, во второй половине XIX века.
Галина: Импрессионизм.
И это – что?
Галина: Искусство.
Нет, ну это понятно.
Галина: Окно в мир.
В каком смысле?
Галина: Оно очень тесно связано с реальностью. Там какие понятия релевантны? Похоже-непохоже. Красиво-некрасиво. Рефлексии в тех произведениях почти нет.
Вот как раз там-то рефлексия и есть.
Галина: Не у самого искусства, а в отношении к самому себе.
Кругликов: Это изо всех сил создание той реальности, которая... Почему это называется окно в мир? Две перспективы, линейная и воздушная. Анатомия. Рефлексы.
Галина: Светотень. Когда я говорю «рефлексия», я имею в виду концептуалистскую рефлексию. Когда искусство сделает шаг, а потом думает: «А это уже искусство? Или еще не искусство?» То, что делает Альберт.
Кругликов: Вот ты можешь сказать, чем Дюшан революционен?
Ну ты же сам определил, что это один из первых художников, который засомневался в том, что он делает. А это уже реактивизм. Потому что ты вместо того, чтобы обрести хоть какую-то свободу, начинаешь реагировать на «зачем», «почему» и тому подобное. И это, в общем-то, не очень интересно.
Галина: Объясни мне, пожалуйста, что плохого в рефлексии искусства по отношению к собственным границам?
Ничего плохого. Только я не согласен, что это явление исключительно ХХ века. Это просто самонадеянность людей, не понимавших, что с ними происходит: вдруг нужно было повоевать, поучаствовать в национализме. А для нормального религиозного живописца понимание собственной работы связано с его пониманием мира. Это рефлексия в рамках традиции.
Галина: Но она формально не проявляется.
Это как раз и замечательно.
Кругликов: Знаешь, я отчасти понимаю твою любовь к классическому искусству, поскольку там не возникает проблем модерна. Но я тебе могу точно сказать, что в те годы мне было абсолютно скучно смотреть весь Ренессанс, передвижников, всю продукцию, которая жизнеподобна. Мне нужно было искусство, которое создает свои собственные артефакты. Вот ты можешь сказать, что такое искусство?
Нет. Я как раз хотел у тебя спросить.
Кругликов: Я могу сказать. Искусство – это, во-первых... (Думает.) Нет, я не знаю, что это такое.
Так я это уже сказал.
Кругликов: Искусство – это некая деятельность, которая заключается в том, что создается нечто, чего раньше не было.
Галина: Любая домохозяйка создает салат, которого раньше не было. Недостаточное определение.
Кругликов: Да, хорошо, сужаем пространство. Искусство – это некая деятельность, которая, видимо, производится отдельным человеком или отдельными коллективами людей... Хотя форточки тоже могут создаваться отдельными коллективами людей. (Наливает.) Давайте…
(Все выпивают.)
Галина: В них нет осмысления и трактовки. А гениальность концептуализма в том, что он осмысляет сам себя.
Кругликов: Искусство – это создание чего-то, чего раньше не было.
Галина: Хуйня.
Кругликов: Нет, это очень важно.
Галина: Хуйня. Изобретение сковородки искусством не является.
Кругликов: Я сужаю пространство.
Галина: Ты что-то очень медленно сужаешь.
Кругликов: Блядь, я запутался.
Галина: Пить надо меньше.
Кругликов: А это банально!
Галина: А банальность – это уставшая истина.
Кругликов: Я могу сказать, что есть искусство для меня. Сойдет?
Сойдет.
Кругликов: Это некая интеллектуальная игра, которая претендует лишь на то, чтобы быть. Я создаю вещи, которых раньше не было. И я думаю, что этого для искусства достаточно. Весь остальной пафос – например, призывы строить новое общество – лишь способствует тому, чтобы человек вел себя цивилизованно. Я создаю некие вещи, которых раньше не было. И я думаю, что этого достаточно для искусства.
Галина: Дим, колесо – это искусство? Сковородка?
Кругликов: Слушай, дай мне договорить. Все остальные пафосные вещи, которые приписываются искусству, скажем, призывы строить новое общество или даже... Как это называется, когда сериалы...
Сериальность?
Кругликов: Нет, нет, нет. Они способствуют тому, чтобы человек вел себя цивилизованно.
Галина: Педагогические функции?
Кругликов: Длинно. Короче, вот эта вот хуйня – я ее за искусство признаю.
Галина: Ты имеешь в виду трансляцию морали, да?
Кругликов: Ну да, как бы вот это моделирование неких поведенческих модусов. Ладно, хуй с ним.
Галина: Окультуривание обезьяны.
Кругликов: Это никуда не денешь. Понимаешь, искусство влияет на то, как человек себя в социуме ведет. Он посмотрел, блядь, не знаю, «Тени исчезают в полдень» – и стал сибиряком. Немногословным. Ну, условно говоря. Какие-то вот эти модусы мачо...
Галина: Это пошлость. Набоков во всяком случае считал, что это совершенно не нужно навешивать на искусство.
Кругликов: Я не навешиваю – я просто признаю за ним эту функцию, как ни крути. Даже, понимаешь, дюшановский писсуар воздействует на сознание людей. А иначе зачем он существует?
Галина: Воздействует на сознание или формирует социально приемлемое поведение? Это разные вещи. Согласись, социально приемлемое поведение – это поведение консервирующее. А воздействовать на сознание – это иногда революционно. Разрушительно.
Кругликов: Вот сука, а! Ненавижу. Хорошо. Дело в том, что в перспективе эта революционность скажется положительно на обществе.
Галина: Выкрутился. Амбивалентный какой! Зачем тебе вообще этот педагогический аспект понадобился, я не понимаю?
Кругликов: Я говорю о том, что, как ни крути, даже в самом концептуалистском произведении он присутствует.
Галина: Чего, водка кончилась? Ты почему так мало водки купил, Кругликов? Козлина!
Кругликов: Может, мне сходить?
Галина: Сходи, сходи. Водка не должна кончаться. Это пошло.
Кругликов: Во-первых, мы хорошо пьем.
Галина: Это ты хорошо пьешь. А человек всю твою шнягу должен слушать.
Да я на работе.
(Через некоторое время.)
Кругликов: Я помню, мы с папой как-то шли по дороге. Мне было, наверное, лет 15. И он мне сказал: «Мне совершенно неважно, из чего сделано искусство, хоть из говна, лишь бы там была идея». И я, в общем-то, согласен.
Передай папе, что я тоже согласен.
Кругликов: Я вот следую рекомендациям Дюшана. Я переношу говно в арт-пространство. У меня будет выставка в Зверевском центре, «Ликвидация». Это будет барахолка. Все, что я перед отъездом не продал, будет там выставлено. Там будут выставлены мои работы, там будут выставлены пачки от сигарет. Короче, это будет Тишинский рынок 90-х годов. Каждая штучка будет подписана моим именем. Вот эта баночка, которая...
Галина: Баночки не тронь!
Кругликов: Ну, я имею в виду, что любое говно, которое там будет продаваться, это будет мое произведение. Это будет тотальная инсталляция.
Но ты же сказал, что художник всегда создает что-то новое.
Кругликов: Следуя дюшановской логике, все, что я выставляю, есть произведение искусства, потому что я художник. Моя однокурсница, которая была куратором в 90-е, сказала: «Кого я назову художником, тот им и будет».
(Смеется.) Почему-то многие кураторы 90-х так думали.
Кругликов: Но это не кураторский проект. Вот, допустим, есть Кулик. Он вне кураторов состоялся, сам по себе.
Галина: Ну, Гельман все-таки постарался для него. Если бы он его ногой не вытолкнул голого на улицу...
Кругликов: Бренер – абсолютно самостоятельная фигура. Хотя он и работал в институциях того же Гельмана, он принципиально выступал против всяких институций. С чего он начался все-таки? С этой акции, со встречи с женой у памятника Пушкину. Знаешь?
Бренера знаю, жену не знаю.
Кругликов: Он приехал из Израиля. Давно не видел жену. Назначил ей свидание возле памятника Пушкину. А где еще в Москве? Влюбленные. Зима. Она пришла, а он ее завалил, снял с нее трусы и пытался ее ебать. Ебать не получилось, потому что не встал. Но не в этом дело.
Галина: Ну холодно вообще-то. У меня бы тоже не встал. Журналисты тут всякие...
(Смеется.)
Кругликов: Там была делегация каких-то учительниц из Тулы. В шапках мохнатых, в пальто с воротниками. Они увидели это: «Тьфу, гадость. Наркоманы, наверное». И стали на Пушкина смотреть.
А что там стучится?
Кругликов: Так иногда бывает. Это дверь хлопает.
Галина: Дима! Я уеду как вдова.
Кругликов: Это туалетная дверь. Я ее открыл. Не шелести.
Ну, до вдовы еще нужно дотянуть.
Кругликов: А вы знаете старый еврейский анекдот на эту тему? Старый еврей говорит: «Если кто-то из нас умрет первым, я поеду в Лодзь». А я очень люблю другой: «Вы, конечно, будете смеяться, но Сарочка тоже умерла».
Галина: А рыбу на потом?
Этот я не знаю.
Галина: Сейчас он очень долго будет рассказывать. Будет артифицировать.
Кругликов: Умирает старый еврей. А там жарится рыба. Заходит племянник. Он ему говорит: «Моня, попроси маму, чтобы она принесла мне немножечко рыбы». Моня уходит, возвращается, говорит: «Мама сказала “нет”. Эта рыба на потом».
(Смеются. Выпивают.)
А мне нравится хасидская история, где умирает учитель и ученик говорит:
– Учитель, учитель, ну скажите, в чем смысл жизни?
– Жизнь – фонтан.
– Неужели, учитель, фонтан?
– Ну, может, и не фонтан.
(Смеются.)
Кругликов: Хорошо. Вот тоже хасидская вещь. Это уже не анекдот, а притча. Приходит еврей к раввину и говорит:
– Ребе, объясните мне такую простую вещь. Почему, когда ты приходишь к человеку бедному, он делится с тобой последним, сажает за стол, разговаривает с тобой, как-то интересуется твоими делами. А когда приходишь к человеку богатому, он тебя отправляет кушать со слугами, никакого контакта?
– Подойди к окну. Что ты там видишь?
– Ну что я там вижу? Карета проехала. Женщина с ребенком прошла. Фонарь какой-то горит.
– А теперь подойди к зеркалу. Что ты там видишь?
– Ну что я вижу? Себя.
– Вот видишь? Там – стекло. А стоит добавить немножко серебра, и человек видит только себя.
Да. Красиво.
Галина: Какой-то негуманный рассказик. Про яичницу лучше.
Кругликов: Это байка. А то как бы реальность.
Галина: Тем не менее.
Кругликов: Я забыл фамилию этого художника спьяну. Короче, это друг Губермана. Художник. Он приехал, значит, в Израиль, они там подпили уже, и Губерман ему говорит: «Слушай, пошли, тут один такой раввин, мудрец охуенный совершенно. Пошли к нему, он все скажет». Приш-ли к нему, стали говорить. Говорили-говорили. Тот произносил мудрости всякие, и этот художник как-то расчувствовался и говорит: «Ребе, а вот скажите, я по субботам ем яичницу со смальцем. Это как вообще?» Ребе отвечает: «А она вам нравится?» Тот говорит, что очень нравится, вкусно. И раввин: «Ну тогда можно».
И все?
Кругликов: Все.
Галина: Что-то ты, по-моему, пропустил.
Кругликов: Ну, ребе его спрашивал: «Со смальцем?» То есть он допытывался до всяких подробностей.
Галина: Нет, что-то ты не так рассказал. Там как-то по-другому было.
Кругликов: Так пьяный же.
(Смеются.)

Кругликов: Знаешь, откуда эта фраза родилась?
Нет.
Кругликов: Приехал ко мне как-то один мой приятель, таджик, доктор наук. Он учил меня суп делать в свое время – в частности, как правильно чистить картошку и так далее. Ну, студенты не все умеют, а он умеет. Вот сидим мы с ним, пьем. Решили, значит, картошку пожарить. Я смотрю: он глазки не вырезает. Говорю: «Рустам, ты, блядь, чего хуйню делаешь?» Он так посмотрел: «Так пьяный же». То есть вот это четкое нарушение правил – оно отменяется.
Мне жизнь очень в этом смысле помогла. Дружба с Александром Моисеевичем меня спасла от любых...
Кругликов: Александр Моисеевич – это кто?
Пятигорский.
Кругликов: При слове «Пятигорский» у меня прежде всего возникает ассоциация с виолончелистом Пятигорским. Была такая история, это гдето 1977 год. В Ялте появился маньяк. В то время Ялту без всякого Собянина мостили плитками – вот такими, по 25 килограммов веса. И этот маньяк совершил несколько убийств. У него было что-то вроде кинжала или стилета, он подбирался к женщинам ночью, втыкал, а потом, чтобы их не опознали, разбивал этой плиткой лицо жертвы. И вот приезжают к нам знакомые, селятся в гостинице «Массандра». Если ты знаешь Ялту, это рядом с гостиницей «Ялта», то есть от центра нужно пройти по всей улице Дражинского, довольно темной. А мой папа, виолончелист, дал нашим приезжим – они тоже музыкантки – почитать воспоминания Григория Пятигорского. Который – дико остроумный. И они их читают. И вдруг они нам ночью звонят: «Приходите к нам немедленно!» Это все на фоне этого маньяка. «У нас, – говорят, – убийство». Ну, папа берет ножик кухонный – потому что чем-то нужно обороняться от маньяка – и говорит: «Димка, пошли». И мы пошли. Приходим к ним. Они сидят обе вот так и говорят: «Вы за окно посмотрите!» Мы смотрим, а там труп лежит. Реальный труп, просто накрытый простыней. Человек сверху упился, видимо, пошел блевать и перекинулся. Но на фоне всех этих разговоров про маньяка – ужас. Папа говорит: «Что будем делать?» Они отвечают: «Давайте вслух читать воспоминания Пятигорского».
Галина (смеется): А зачем?
Кругликов: Понимаешь, они живут на втором этаже. У них расколотая голова, из которой льется кровь, под окнами. Ужас. И мы начинаем читать разными голосами Пятигорского и ржем все. Периодически эти дамы говорят: «Нет, не уходите!» Время идет, час ночи, два, три, четыре.
Галина: Как вы с папой, так, значит, Димка. А как дамы, то, значит, «дамы»? Тьфу, блядь. Ненавижу.
(Смеются.)
Кругликов: Хорошо, Полина с дочерью, с Женькой.
Галина: О! Уже по-человечески.
Кругликов: Папа говорит: «Димка, ты иди, вроде еще рано, часа три или четыре». При этом маньяк только на женщин нападал, нужно ему отдать должное, он мужчин вроде не трогал, строгий был человек. Как встретит мужчину – так нормальный человек. А как бабу – ну... И пошел я домой. Пришел домой, а потом папа рассказывает, что в конце концов они спать захотели. Он говорит: «Спать хочу, но хуй его знает, получается что-то типа интима. А спать-то негде». А представления-то еще 70-х годов. Короче, пошел он домой. А ножик-то взятый кухонный с собой понес. И вот он идет с этим ножиком кухонным и говорит: «А ведь страшно!» А там пустынная совершенно улица, даже летом.
Галина: Но он же не дама.
Кругликов: А это неважно. Все равно страшно. И он говорит: «Я иду, и как вижу, что кто-то мне навстречу, я так с ножиком встану»...
Галина: И маньяком прикинусь.
Кругликов: Нет. Фонариком поймаю зайчика и свечу. И тут они все деваются куда-то.
(Смеются.)
А прохожу мимо нашей бабушки и вижу, что там голая девка купается, голые мужики рядом с ней. Мне так понравилось... Это его от всего этого ужаса просто вот так вот отвлекло: жизнь продолжается. Вот так он с ножиком...
Прекрасно.
Кругликов: А потом его поймалитаки.
Папу?
Галина (смеется): С ножиком бликующим.
Виолончелист с ножиком.
Кругликов: Поймали этого самого. Он был повар из какого-то ресторана. Там была тетка из МВД, которая на Чайной горке изображала из себя...
Галина: Наживку?
Кругликов: Да. Ребята сидели по кустам, и его взяли.
Галина: Мифология.
Кругликов: Девять, по-моему, жертв за ним.
Галина: А вдруг мы тоже маньяки, а? Вот ты сидишь, сидишь, а мы возьмем и...
Через пять минут вызываю такси.
Галина: А чего ты так нервничаешь-то? Допьем водку – поедешь.