Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!
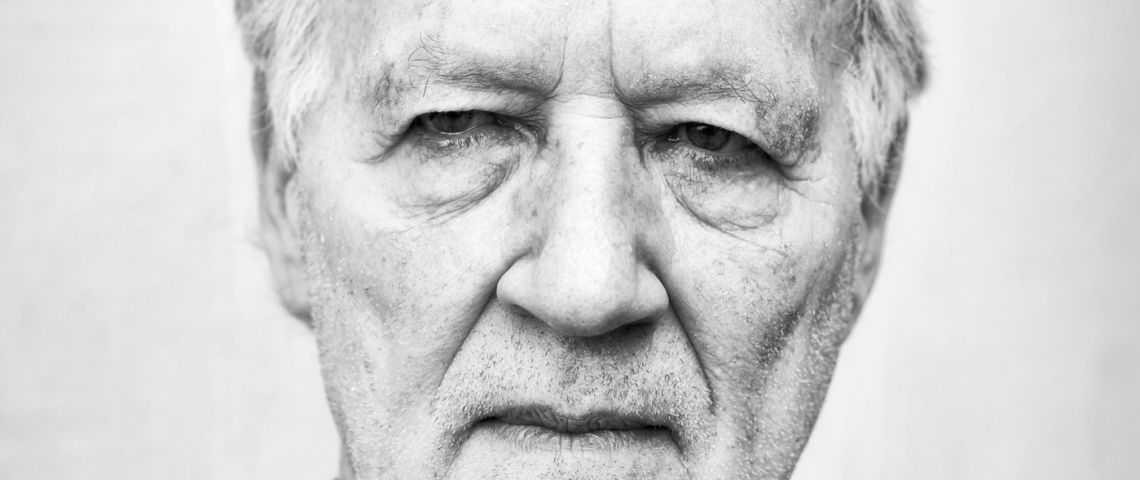
До одиннадцати лет вы вообще не знали о существовании кино. Важен ли для вас этот опыт «несуществования»?
Этот опыт был еще богаче. Я ничего не знал и о существовании банана. Слова «банан» или «апельсин» в моем мире ничего не значили. И голодать для нас, выросших после войны, было благом. Это было что-то необыкновенное. Нам, детям, в то время приходилось самим находить себе игрушки, придумывать игры. Ничего же не было. Ситуация была замечательная – то, что у меня не было своих игрушек, то, что мне нечего было есть, и, когда меня мучил голод, я мог вообразить себе хлеб – это было гораздо лучше, чем если бы он был. Мы все выросли без отцов: они или погибли, или находились в плену. И для молодых людей ничего лучше не придумаешь – не было никого, кто бы нами командовал. И самим за себя отвечать нам пришлось очень-очень рано. Во время учебы в школе я два с половиной года работал в ночную смену на сталелитейном заводе сварщиком, так как хотел заработать деньги на съемки фильмов.
В своем фильме «Непобедимый» вы рассказываете о Цише Брайтбарте, восхищаетесь его силой. Ваш первый фильм тоже был о мускулистых типах, только в нем было больше иронии. Куда исчезла эта ирония?
Никуда. Мне вообще не свойственно чувство иронии. Это мой недостаток. Это не значит, что я не понимаю шуток, я и посмеяться могу, но в иронии заложен иной смысл, иной уровень отношений, и уловить этого я не могу. Так что во Франции со мной просто беда – в тамошних кафе все замечательно беседуют, и каждое второе предложение пронизано иронией. А я все воспринимаю буквально, отвечаю в лоб. Это ужасно, я сижу там как какой-то мужлан, который только и умеет что выращивать картофель. Это очень плохо. Как-то звонит мне мой друг, композитор Флориан Фрике, и, не изменяя голоса, произносит: «Я заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел. Министр хотел бы с вами поговорить, могу я вас соединить?» Пять секунд в трубке царит тишина. И уже как министр он, опять не меняя голоса, продолжает: «Я министр и приношу вам глубочайшие извинения за полученное вами письмо о награждении вас кинопремией правительства Германии». А речь шла об очень крупной сумме для работы над следующим фильмом. И тут он произносит: «К сожалению, в министерстве ошиблись, премия присуждена не вам, а другому режиссеру. Примите наши извинения». Я остался холоден и спокоен, но был в таком шоке, что сказал: «В письме стоят три подписи, а это значит, что оно прошло через руки трех чиновников министерства. И вы еще отвечаете за охрану границ нашего государства. Что же происходит в вашем министерстве, вы мне можете ответить?» И тут он начал смеяться, остановиться не мог. И только тогда я сообразил, что это мой друг. А до того десять минут я разговаривал с заместителем государственного секретаря, с министром, – и разговаривал серьезно, – а он даже голос не изменил.
Есть ли, на ваш взгляд, сходство между Цише Брайтбартом, Каспаром Хаузером, Строшеком? Они рассказывают одну и ту же историю?
Нет, в фильмах рассказывается не одна и та же история. Цише Брайтбарт из тех людей, для кого гравитация, или сила притяжения Земли, нечто иное, чем для нас. Он может поднять тысячу фунтов. Приложить усилие, противоположное силе притяжения Земли. Или перетащить пароход через горы. В этом можно найти некое родство с другими моими героями. Но не запланированное, оно возникает спонтанно.
Почему для вас важно показать в кино физическую реальность столь аутентично?
Не ради эффекта реальности, тут совсем иное. На самом простейшем уровне это вопрос достоверности. Если вы тащите через горы 360-тонный корабль, вам любой ребенок скажет, что это компьютерный эффект, или подумает: «А, это точно была модель, пластиковая модель». То, что корабль настоящий и его тащат, я заставляю делать не ради натурализма или реализма. Это то, что я называю экстатической истиной. Это поиски некой глубочайшей истины, какую мы находим, например, в поэзии. Вот сейчас в библиотеке совершенно случайно я могу взять любую книгу – вот, выдающийся немецкий поэт. И если вы, например, заглянете хотя бы в одно стихотворение Гельдерлина, вы сразу же поймете, что в нем таится некая глубокая, особая, экстатическая истина. И этого же можно добиться и в кино. Если корабль тянут в гору, то это как некое гигантское видение, не имеющее ничего общего с реальностью, это событие из какого-то грандиозного оперного зрелища, какого-то фантастического бреда. И это можно найти во всех моих фильмах.
Не могли ли вы подробнее объяснить, что такое экстатическая истина?
Это можно пояснить на отдельных примерах. Теоретически я вам сейчас не смогу объяснить, что под этим подразумевается. Если вы из немецкой литературы возьмете Гельдерлина, вы сразу поймете, что это значит. В каждом стихотворении есть нечто неповторимое, и вы знаете, что это и есть глубокая экстатическая истина. Когда вы читаете прозу Клейста или Бюхнера или из английской литературы – короткие рассказы Джозефа Конрада, вы сразу же это обнаруживаете. Чрезвычайно трудно описать, что это. Но, как я вижу по вашему лицу, вы уже поняли, что я имею в виду.
Вам по-прежнему нравится ходить пешком?
В английском языке есть выражение travelling on foot. Оно не имеет отношения к jogging или wandern, когда люди на два-три дня отправляются с рюкзаком в горы. Ходить пешком – это связано с формой нашего существования, от которой мы отдалились. В условиях нашей цивилизации мы летаем на самолетах, передвигаемся на машинах, на поездах. И если это продолжается долго, то это неправильно, это плохо. Мы не для этого созданы. И то, что игнорируется столь элементарная форма существования, неверно. Не исполнен некий закон человеческого существования, наступает деформация. Это так же, как не заводить детей – вы не исполнили элементарный закон жизни. Понимаете, если вы женаты и жена ваша бесплодна или бесплодны вы по каким-то медицинским показаниям, это одно, но если вы сознательно, по своей воле отказались иметь детей, это не делает вам чести. То же самое можно сказать и о ходьбе пешком. С доисторических времен мы были кочевниками, и то, что мы отказались от подобного образа жизни, создало громаднейшие проблемы, которые в конечном счете погубят человека. Все крупные проблемы, которые губят человека, зародились в тот момент, когда в эпоху неолита мы начали разводить свиней. И это самый большой грех. Если мне будет позволено выразиться языком религии, это было одно из величайших грехопадений. Не грешно держать собаку, потому что собака сопровождает вас на охоте, в ваших постоянных скитаниях. Держать свинью – большой грех.

А в чем разница между тем, чтобы идти пешком – и оставаться на месте?
Сейчас я не могу привести серьезных аргументов, ибо, путешествуя пешком, я совершаю только определенные вещи, которым присущ экзистенциальный смысл, значимость.
Так было, когда вы пешком шли к Лотте Айснер?
Да, примерно. Лотте Айснер было тогда 80 лет, она в Париже лежала на смертном одре. Кто-то из друзей позвонил мне и сказал, что я должен лететь туда ближайшим же самолетом. Я положил трубку и сказал: «Нет, самолетом никогда». Я должен был идти пешком, и мне было безразлично, что это какая-то тысяча километров, что с запада угрожает ветер и снежная буря. Это был бунт против смерти. Я знал, что она не может умереть. Не имеет права. Я ей не разрешаю, мы сейчас не можем допустить, чтобы она умерла. И я знал, что когда приду в Париж, она уже выпишется из больницы. Речь не о суеверии, речь об убежденности. Когда я пришел в Париж, она действительно уже выписалась из больницы и прожила еще восемь лет. И когда ей было уже под девяносто, в шутку она мне сказала: «Послушайте, Вернер, надо мной все еще висит ваше заклятье, запрещающее мне умереть. Но я почти ослепла, передвигаюсь с трудом, не могу больше ни читать, ни смотреть фильмы. Я пожила достаточно, и вы должны снять с меня заклятье, настало самое подходящее время умереть». Я сказал: «Да, Лотте, естественно, теперь вы можете умереть». Она пила чай и смеялась. Через три недели она умерла.
Вы и Клаусу Кински когда-то желали смерти?
Я желал ему смерти, но не с такой интенсивностью, с какой желал жизни Лотте Айснер. Он мне был необходим, чтобы завершить съемки.
Я могу привести вам еще один простой пример, как экзистенциально важно все, что связано с путешествием пешком. Я хотел жениться на женщине и иметь от нее детей. Она жила далеко на юге, за Альпами. Я рассуждал: чтобы сообщить ей об этом, я должен или написать письмо, или полететь самолетом, или поехать поездом.
Но очень скоро мне стало ясно – взрослый мужчина, который в состоянии ходить, такое должен сказать, придя к ней пешком. И тогда я пешком пересек Альпы, пришел к ней, постучался и сказал, что я пришел пешком и есть причина, почему пешком, так как я должен задать важный вопрос. И ее ответ был «да». «Да», скорее всего, я услышал бы и по телефону, но это было бы неверно, вы понимаете, что я имею в виду?
Но почему надо было говорить женщине, что вы пришли пешком, разве шли вы не ради себя?
Если вы хотите назвать женщину своей женой и иметь от нее детей, вы же не станете сообщать ей об этом по телефону или же приехав на машине.
Это понятно, но…
Правильно. Неважно, как далеко живет эта женщина, лучше всего сделать это, придя к ней пешком. Вы, очевидно, этого не понимаете, вы ведь мужчина, но если спросить об этом женщин, они поймут сразу же.
Когда вы идете пешком, вас посещают какие-то особые мысли? Райнхольд Месснер говорил, что при восхождении голова абсолютно пуста, ни одной мысли…
Это совсем другое дело, там ведь огромное физическое напряжение, внимание обострено – куда положу руку, как поднимусь, за что ухвачусь. Там, очевидно, нельзя думать ни о чем другом, только о технике. И ведь опасность со всех сторон. А когда я иду пешком, я переполнен невероятными романами, историями, приключениями. Я даже не замечаю, что прошел 30, 40 километров, потому что в это время я был одним из главных персонажей толстого романа. И я ни разу не терял направления, как это ни смешно, я всегда шел в правильном направлении. Как-то я участвовал в футбольном матче в Рио на стадионе на 220 тысяч зрителей, где играли самые замечательные футболисты мира. И я мог играть с ними. Когда раздался свисток судьи, я подумал: где они, эти 220 тысяч зрителей, и где нахожусь я? Я был уже за 30 километров оттуда.
На Каннском кинофестивале, когда Ингмар Бергман в присутствии тысячи журналистов начал говорить о смерти, вы готовы были провалиться сквозь землю от стыда за него…
Видите ли, существуют две вещи, возможные только между двумя друзьями. Будь вы моим другом, я, вероятно, заговорил бы с вами о смерти. Каким-нибудь долгим вечером, но никогда перед камерой, ибо за ней – огромная анонимная публика. К сожалению, я пережил этот эпизод с Ингмаром Бергманом, который делал прекрасные фильмы и которого я очень высоко ценю. Но когда на пресс-конференции он начал рисовать картины смерти, о чем к тому же его никто не спрашивал, это была фантастическая глупость. Есть определенные сферы, которые остаются в тебе, или если они играют какую-то роль в вашем диалоге, то только с женой или с хорошим другом.
А в кино говорить о смерти можно? Есть тут какое-то существенное отличие?
Безусловно, в кино совсем другие законы, это не интервью. Вы можете посмотреть все мои фильмы, которые я сделал. Фильмов пятьдесят, и ни в одном из них люди не целуются. Только в самом последнем есть небольшой эпизод…[1. Интервью было взято в Риге в 2001 году.]
Вы как-то назвали самоанализ модным поветрием, но ведь самоанализ существует со времен античной культуры.
Я имел в виду скорее психоанализ. Я не знаю никого, кто побывал бы у психоаналитика и кого я хотел бы назвать своим другом. У них у всех что-то не в порядке. Я полагаю, что ошибка цивилизации, неправильное развитие заключается в том, что высвечиваются темные и неизведанные стороны души, которым надлежит оставаться во тьме. Неправильно, плохо, что мы до самого дна пытаемся изучить свою душу, высвечиваем ее. Если вы в своей квартире ярко высветите каждый ее уголок, яркий свет повсюду, все видно как на ладони, то в такой квартире жить уже невозможно. Вы не будете чувствовать себя в ней уютно, как у себя дома. Так и люди, которые обнажают каждый уголок своей души, «неуютные» люди.
Некоторые критики ваш метод называют безумием.
Ах, то, что появляется в информационном пространстве, не моя проблема, ведь некоторые трафаретные фразы о гении и безумстве приблудились к нам из прошлого века, и я совершенно не знаю, что все еще… Поэтому я говорю: для воина от кинематографа самое существенное – дисциплина. Клинически я здоров.
Я слышал, что вы не знаете, какого цвета у вас глаза…
Да, но связано это с наблюдением за самим собой. Мы возвращаемся к вопросу о том, действительно ли психоанализ, саморефлексия – некое благо. Я подхожу к этому настолько радикально, что по утрам, когда стою перед зеркалом и бреюсь, я смотрю, чтобы не порезаться, но не хочу заглядывать себе в глаза. Не хочу себя изучать. И мне хорошо, так я чувствую себя здоровым человеком, я не слишком себя засвечиваю, не слишком глубоко в себя заглядываю, бога ради, только не это. И то, что я могу работать с такой отдачей и относительно неплохо функционирую, объясняется тем, что я отказался вертеться вокруг своего пупа и глубоко заглядывать себе в глаза. В то, что я не знаю цвета своих глаз, не верит ни один человек.
Но в паспорте же записано?
В паспорте записано – серо-зеленые. Когда чиновник спросил, какого цвета у меня глаза, я сказал, что не знаю. Он посмотрел и записал: «Серо-зеленые».
В свое время вы критиковали телевидение и новые СМИ за то, что они производят однообразие? Каким образом?
Да, безусловно. Если вы каждый день по пять-шесть часов смотрите телевизор, значит, вы очень одиноки, не способны к диалогу, вы не способны любить. Взгляните на детей. Если маленькие дети подолгу смотрят телевизор, они уже не умеют играть, они окончательно глупеют. Телевидение иссушило нашу фантазию, и мы становимся все более одинокими и несчастными. Когда вы в кино, вы волнуетесь, вы живете. Сходство кино и телевидения кажущееся, на деле же это не так. Прекрасно, что вы выбрали для беседы библиотеку. Те немногие, кто читает, те, у кого есть книги, завоевывают мир. А те, кто смотрит телевизор, те мир теряют.

А те, кто смотрит кино?
Те мир обретают.
Но сами вы неохотно бываете в кино.
С удовольствием хожу в кино, но очень редко. Я не киноман. Я смотрю от 12 до 14 фильмов в год как нормальный кинозритель – в месяц по фильму.
Почему стало так трудно, почти невозможно рассказать в кино простую историю?
Вы говорите о дефиците, который ощущаешь, когда смотришь голливудские фильмы. Там и цифровые эффекты, и чудовищные взрывы, и катастрофические события, и яркие звезды, но очень редки хорошие истории. Такие, как «Касабланка». Но они должны вернуться, потому что кинозритель хочет историй. Джек Уорнер сказал, что в кино важны только три вещи – story, story, story. И по сей день правда на его стороне. И еще сто лет будет так же. Рассказывать – естественное свойство человека, форма человеческой коммуникации с эпохи неандертальцев, и оно никогда не исчезнет.
Это правда, что вы вообще не видите снов?
В обычном понимании снов по ночам я не вижу, что-то подобное происходит очень редко, возможно, раз в году, и в большинстве своем это очень скучные вещи. Я действительно не вижу снов. Зато когда я бодрствую, я проживаю роман. Когда я иду пешком, за день я проживаю 500-страничный роман. И за это время я столько увижу, столько переживу, чего в действительности и не происходило.
Не помогает ли отсутствие ночных сновидений дневным грезам наяву, есть ли между ними какая-то связь?
Нет, я не знаю, не хочу знать… Я только могу сказать, что когда я встаю утром, я ощущаю это как некий недостаток – опять не видел снов, опять не видел снов. Это действительно изъян. Может быть – я говорю это с осторожностью, – может быть, может быть, может быть, это одна из причин, почему я делаю кино.
Однажды вы назвали себя атлетическим режиссером. Почему именно атлетическим?
К этому надо подходить очень осторожно. У меня часто спрашивают о концепциях, интеллектуальных планах, какие обычно бывают, когда пишешь сценарий или делаешь фильм. На все эти вопросы, которые для меня не имеют никакого значения, я отвечаю, что процесс создания кино для меня атлетическое, физическое действие, ибо я очень быстро развиваю в себе физическое восприятие пространства. Если вы не добиваетесь физического восприятия пространства, то публика, которая видит на экране помещение, комнату, очень быстро перестает ориентироваться. Когда я в кино, я, как зритель, хочу физически совершенно четко знать, где я, я должен знать, как выйти. И когда работа физически напряженная, я тоже хорошо функционирую.
В детстве вы мечтали стать чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина. Эти несбывшиеся мечты во что-то воплотились?
Да, в детстве я был очень сильным и мечтал стать чемпионом по прыжкам на лыжах с трамплина. Мы все об этом мечтали. Я очень серьезно тренировался. В детстве участвовал в небольших международных соревнованиях. Но все изменилось, я с этим порвал, когда мой лучший друг во время тренировки получил травму и долгие недели провел в коме. К счастью, он выжил. Это было так ужасно, что после этого я никогда больше не мечтал о такой возможности. Я был бы хорошим прыгуном, но никогда бы не попал в класс мастеров, потому что я знаком с некоторыми чемпионами мира. О швейцарце Вальтере Штайнере я делал фильм, и мне было ясно, что я никогда не смогу с ним сравняться. Такие выводы могут быть очень полезны, когда расстаешься с мечтой.
Но что-то от мечты остается?
Конечно, я по-прежнему хочу летать. Вот в прыжках в длину практически летят без снаряжения. Лыжи нужны только для создания ускорения и для приземления. Во всяком случае, сегодня они очень широкие и держат их в виде буквы V по отношению к телу, чтобы можно было создать большую воздушную подушку. Очень помогает – с точки зрения аэродинамики. По существу лыжи не нужны. Это такие экстатические, неописуемые мгновения, когда вы летите. Улетел-то ты недалеко, но ощущения не поддаются описанию. Мечта эта, очевидно, живет в человеке где-то очень глубоко, но она никогда не исполнится – летать мы не можем. Я не имею в виду самолет, технические средства, а то, что мы взмахиваем руками, взлетаем и летим, парим.
Полет – коллективная мечта?
Допускаю, что да, потому что многие люди, которых я знаю, тоже мечтают об этом. Огорчает, что так сильна у нас сила притяжения Земли, и мы должны смириться и как-то с этим уживаться. Я с удовольствием стал бы и футболистом, но технически я был не особо хорош, слишком медлителен. Там бы я всегда находился в пятой лиге.
Знакомо ли вам состояние «вы против всех или Бог против вас»?
Это некоторым образом мой девиз, но не надо преувеличивать. Я очень часто оставался один, когда мои ближайшие друзья внутренне меня уже покинули, потому что не верили, что то, чего я добиваюсь, осуществимо. Съемки «Фицкарральдо» были самыми горькими и одинокими. Одиночество. Там была ситуация, когда в построенной мною деревне находилось 1100 статистов… Они были там, я их знал, они знали меня, но никто больше не верил в то, что я делаю, внутренне они от меня отвернулись. И я чувствовал, как они пытаются уберечь меня от меня самого, от моего сумасшествия, и во время поездки они обращались со мной как с больным. Это было ужасно. Я не был болен, я просто хотел осуществить задуманное, но это было невозможно