Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
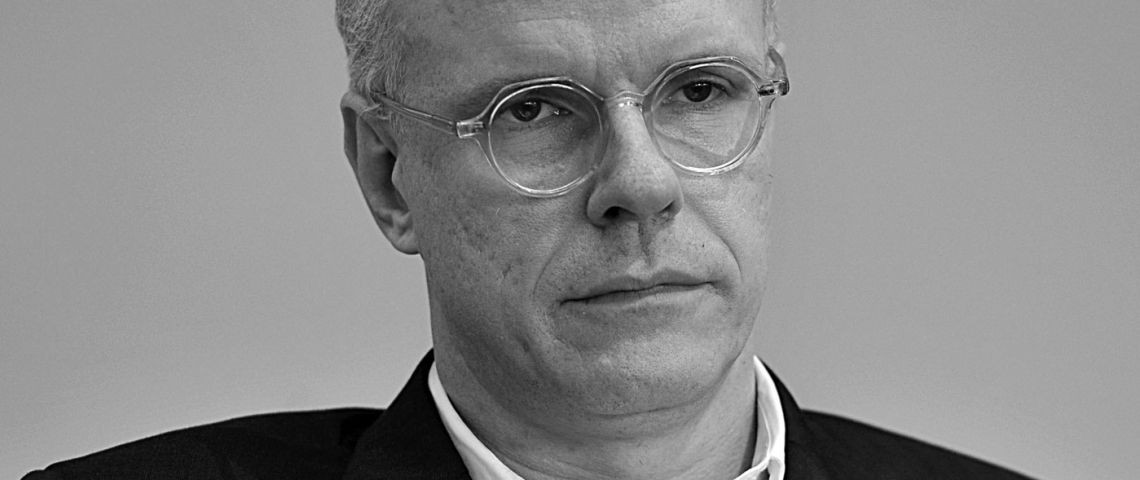
Он свободно говорит по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански и по-английски, записал около 2000 часов интервью с современными художниками, был куратором почти 200 выставок, опубликовал около 200 каталогов по искусству; в 80-х годах прошлого века пытался уменьшить до абсолютного минимума количество сна по методу Бальзака («50 чашек кофе в день»), потом перешел на метод да Винчи – спать по 15 минут каждые три часа; вскоре после переезда в Лондон в 2006 году основал «Брутально ранний клуб», члены которого встречались для бесед в 6.30 утра в «Старбаксе»; только в последнее время начал спать ночью по шесть часов, чтобы смотреть сны в то время, когда трех его дневных ассистентов сменяет ночной, чтобы успеть разобраться со всеми неотложными делами. В мире современного искусства распространено мнение, что именно он создал могущественный и неоднозначный образ куратора современного искусства, хотя для него самого источником вдохновения служат Сергей Дягилев и легендарный швейцарский куратор Харальд Зееман. Сокращенно его называют HUO, что исландский художник Олафур Элиассон расшифровывает в посвященной ему оде как Heteromorphic Unique Omnipresent («Гетероморфный Уникальный Вездесущий»), однако большинство связывает это сокращение с его именем – Ханс-Ульрих Обрист (род. 1968). Гиперактивный и вездесущий куратор швейцарского происхождения начал свою карьеру с выставки на собственной кухне, которую посетили 35 человек, однако за ней последовали первая «Манифеста», несколько лет кураторства в парижском Музее современного искусства, а с 2006 года – работа директором в лондонской галерее «Серпентайн», которую ежегодно посещает более миллиона зрителей. В 2009 году Ханс-Ульрих Обрист возглавил «Топ-100» наиболее влиятельных людей в мире искусства по версии ArtReview, одного из самых уважаемых изданий о современном искусстве. За последние шесть лет он никогда не опускался там ниже 10-го места, а в ноябрьском рейтинге 2015 года делит 4-е место с Джулией Пейтон-Джоунс, с которой он совместно руководит галереей «Серпентайн» в Кенсингтонских садах. Один из очарованных Обристом молодых людей, главный куратор 55-й Венецианской биеннале (2013) и директор выставочных программ нью-йоркского Нового музея Массимилиано Джонни, пишет в «Нью-Йоркере»: «У дадаистов был Тцара, у сюрреалистов – Бретон, у футуристов – Маринетти, а теперь у международного глобального искусства есть Обрист».
Для нашего разговора он предложил встретиться незадолго до полуночи, явился с почти часовым опозданием, во время всего разговора, почти не поднимая головы, делал пометки, а потом за ужином рассуждал о конце Европы, неизбежности большой войны и необходимости строить новый город – возможно, в Канаде, возможно, в Сибири, но надежнее – на какой-нибудь другой планете.
Арнис Ритупс
Вы иногда цитируете слова Карстена Хёллера о том, что искусство – самая интересная область. Что интересного вы в нем находите?
Для меня все началось в 80-х, еще когда я был подростком и увлекся искусством. Я тогда подумал, что некоторые великие художники современности, возможно, через сто или двести лет станут историческими фигурами. Под художниками я понимаю не только живописцев и скульпторов, я еще интересовался литературой, музыкой, архитектурой, дизайном – то есть мне важны все формы. Я всегда верил в идею Gesamtkunstwerk. И для меня выставка Gesamtkunstwerk 1983 года была крайне важна, я еще был подростком…
Простите, что перебиваю, но не могли бы вы рассказать, что вас сейчас интересует в искусстве?
Наверное, то же, что и изначально. Главное не меняется, только что-то добавляется. Сейчас меня интересует новое поколение с его цифровыми технологиями, мне интересно, как они меняют мир. В принципе, это же интересовало меня 30 лет назад, но немного другим способом.
То есть вы всегда интересовались Gesamtkunstwerk?
Да, и еще тем… что искусство дает свободу в выборе формата. Если ты снимаешь кино, у тебя есть 90 минут, это довольно строгий формат. В музыке есть тоже довольно строгий формат концерта. У выставки же формат – вещь очень свободная, потому что она открыта весь день. Недавно мы ходили на оперу в Лондоне и опоздали на 8 минут, так в итоге нам пришлось пройти через целую процедуру наказания. Нас отвели в подвал, заперли в какой-то комнатке с монитором, где мы дожидались конца первого акта. Только в антракте нам разрешили пройти в зал, причем не на свои места, а на гораздо худшие. Пришлось смотреть второй акт с дальних рядов. То есть наказание было полным. Нельзя опаздывать в оперу.
Выставка чем-то похожа на ритуал, я именно так ее и воспринимаю – как современный ритуал, но очень свободный. Однако нельзя забывать, что у него тоже есть границы, которые состоят в том, что этот ритуал рассчитан на визуальные ощущения. Воз-
можно, поэтому эмоциональная привязанность зрителя на выставке не так сильна, как… Маргарет Мид говорила, что мы должны искать форматы, которые создают привязанность – не отстраненность, а привязанность – путем обращения к чувствам. Она приводит в пример средневековые мессы, ритуалы аборигенов Бали. Но я забыл ответить на ваш вопрос, прошу меня извинить, что получилось так витиевато. Карстен Хёллер застал меня в тот момент, когда я хотел уйти из арт-среды. Мне тогда было 25 или 26…
Вам все надоело?
Нет, но я много уже чего успел сделать, и мне не хотелось запираться в одном мире на всю оставшуюся жизнь. Я хотел вырваться из ограниченного мира. Но Карстен объяснил мне, что все остальные миры доступны из этого одного. И он был прав, потому что тут я могу работать с композиторами, режиссерами, поэтами, с представителями самых разных областей. Никакое другое поле деятельности не дает таких возможностей.
Так можно ли в таком случае говорить, что у мира искусства есть границы? Если из него есть доступ ко всем остальным, не становится ли он безграничным пространством?
Да, пожалуй, он безграничен. Разумеется, всегда есть какие-то ограничения – финансовые, пространственные и прочие.
Существует ли что-нибудь, что не может считаться искусством?
Разумеется.
И что это?
Это очень большой вопрос, но я попытаюсь ответить максимально прос-
то. Для меня произведение искусства – это произведение искусства, прошедшее проверку временем. Если мы можем смотреть на него снова и снова.
Создало ли искусство ХХ века нечто такое, на что вам хочется смотреть снова и снова?
Конечно. Например, Герхард Рихтер, если говорить о живых великих художниках.
Разве живопись не умерла?
Вовсе нет. Герхард Рихтер только что закончил серию абстрактных картин, основанных на фотографиях концлагеря «Бухенвальд». Я смотрел на эти работы снова и снова. Вы знаете композитора Арво Пярта? Я предложил им поработать вместе, и Арво Пярт написал саундтрек для этой серии Герхарда Рихтера. Под эту музыку я смотрел на нее снова и снова.
Относительно Герхарда Рихтера сомнений нет, но не могли бы вы назвать пятерых художников ХХ века, которые останутся в веках? Начнем с тех, к кому можно возвращаться снова и снова.
Можно с уверенностью сказать, что к Матиссу я возвращаюсь снова и снова. На днях я заходил в Чикагский институт искусств – в их коллекции много работ устарело, но не Матисс. С ним все по-другому. Дело даже не в том, чтобы смотреть на него снова и снова, а в величии его работ, которые никогда не устареют.
И всегда будут современны?
И всегда будут современны! Это не картина из 50-х, 60-х или 20-х. Так что вот вам еще один простой критерий. Матисс ему полностью соответствует. Но мы не должны ограничиваться западноевропейским каноном. Скажем, в Африке жил великий художник Эрнест Манкоба, один из немногих, кто принадлежал к западному авангарду ХХ века, был частью движения «Кобра» и при этом невероятно важен для Южной Африки. Он чем-то похож на Пауля Клее, но писал очень маленькие абстрактные картины. В 2015 году такое может написать и молодой художник, но я возвращаюсь к ним снова и снова и каждый раз замечаю что-то новое.
Матисс и Манкоба – хорошие примеры, потому что оба живописцы. Но большую часть современного искусства составляет что-то другое, бог знает что.
Но критерии те же самые. Я не думаю, что они зависят от техники, в которой работает художник. В этот список легко можно включить Годара. Я уверен, что его фильмы будут смотреть и через 100 лет. Я их могу смотреть снова и снова по многу раз. Они совершенно точно не стареют. Те же самые критерии касаются и всех остальных фильмов.
Но вы не назвали никаких критериев…
Я указал на две вещи…
То, к чему можно возвращаться снова и снова, и то, что всегда современно?
Да, хотя это не критерии, а, скорее, примеры.
Вы иногда говорите, что задача куратора не только сохранить нечто, но и выставить, а также отобрать, отфильтровать. Не могли бы вы назвать критерии этого отбора? Скажем, когда вы были куратором выставки 89plus, где выставлялись только художники, родившиеся после 1989 года, т.е. целое поколение, какими критериями вы руководствовались, как отфильтровывали такое огромное количество работ?
Забавно, что вы сказали «отфильтровывали». Дело в том, что мы провели уже несколько выставок 89plus. Это ведь еще и исследовательский проект. У нас есть сайт, на котором представлены уже шесть тысяч художников.
Ни один человек не может просмотреть шесть тысяч художников.
Мы за три года пересмотрели – получается примерно по шесть художников в день.
Да, вы можете, вы куратор, но я как зритель надеюсь, что вы отберете для меня самое достойное.
Это моя работа.
И мой вопрос в том, какими критериями вы руководствуетесь, чтобы отфильтровать такую большую группу художников.
Во-первых, раз уж вы используете слово «отфильтровывать», я бы хотел упомянуть выставку в Цюрихе, которая открывается на следующей неделе и посвящена пузырю фильтров. Вы знаете, что такое пузырь фильтров? Это термин из книги Илая Парайзера, которую я горячо рекомендую. В ней описано такое явление: поисковые серверы и онлайн-платформы собирают о нас информацию и используют ее для персонализации выдачи. Если мы введем в поисковик одно и то же слово, результаты будут различаться в зависимости от того, что данный сервис о нас знает. По словам Парайзера, в этом кроется большая опасность, потому что у нас сужается горизонт выбора и в итоге мы оказываемся в ловушке собственных прошлых решений. Кураторская работа должна избегать этого. Надо не создавать пузырь фильтров, а разрывать его. Поэтому мы и делаем эту выставку. Художников, участвующих в проекте 89plus, мы относим к разным категориям. Одна группа категорий, конечно же, тематическая. Мы хотим увидеть общие мотивы у художников этого поколения.
Но ведь это, по сути, социологическая работа, в ней нет кураторского отбора того, что достойно быть представленным публике.
Это тоже присутствует, сейчас объясню почему. Например, просмотрев шесть тысяч художников, мы обратили внимание, что это поколение удивительным образом связано с поэзией, как Флуксус в 60-х или Дада в начале ХХ века. Это стало для нас неожиданностью, потому что в газетах пишут, что начинается эпоха безграмотности, что никто ничего не читает, но это полная чушь.
Но это все равно социология.
Да, но она очень важна и в прошлом году помогла нам подобрать темы для первой выставки – о литературе, о поэзии, о пузыре фильтров. Последняя тема взялась из того, что многие художники поглощены сужением горизонтов, они смотрят из пузыря. И благодаря нашему почти социологическому исследованию мы можем попробовать определить это поколение, найти темы и т.д. Но тут все равно встает вопрос о том, как выбрать работы для выставки. Из шести тысяч художников с поэзией работают триста, вот такая получается схема (рисует). Кроме того, есть семьдесят–сто, как нам кажется, по-настоящему интересных – это те, кто не вписывается в устоявшиеся рамки. Эти две группы пересекаются, и так получается 30–40 художников, работающих с поэзией или пузырем фильтров и при этом новаторов, и вот их-то мы и выставляем. Это я вам поясняю методологию. А потом мы задаем вопрос для следующей выборки. Ответ всегда неодносложный. Во-первых, у меня есть двадцатилетний опыт рассматривания искусства, и в какой-то момент начинаешь полагаться на интуицию. Во-вторых, я всегда задаю себе два уже упомянутых вопроса.
Захочется ли вам посмотреть на эту работу еще раз?
Да, через пять лет или через десять. Но опять же – иногда мы ошибаемся. Я не утверждаю, что я всегда прав, но этот критерий помогает сориентироваться. И второй критерий: я представляю, что прошло двадцать лет, но работа не устарела. Когда я попал в мир искусства, я многому научился у художников. Моим первым учителем был Кристиан Болтанский. Я познакомился с ним, когда мне было 16 лет. Он сказал мне, что помнит только те выставки, которые задавали новые правила игры. Вот вам еще один критерий: есть ли тут нечто принципиально новое? Даже если это четвертый или пятый критерий, он самый важный.
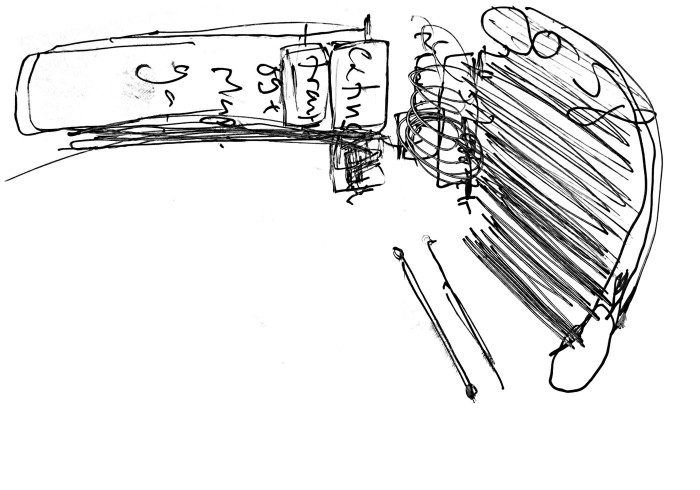
Вы использовали метафору «правила игры» – значит, в искусстве происходит какая-то игра? Не могли бы вы подробнее рассказать о правилах игры и о том, как они создаются?
Правила игры в мире искусства вытекают из правил игры в самом искусстве. К ним, естественно, относится история всех предшествующих игр и всего предшествующего искусства. И вот мы переходим от искусства к более крупной области – к миру искусства, потому что в искусстве много деятелей по всему миру. К ним относятся галеристы, кураторы, критики, директора музеев, журналы, коллекционеры и т.д. Но даже в этом расширенном поле ключевой фигурой остается художник. Куратор и все остальные следуют за художником. Если происходит наоборот и искусство следует за ними, случаются проблемы, связанные с его инструментализацией.
Не выдаете ли вы желаемое за действительное? Было бы замечательно, если бы все эти товарищи следовали за искусством, но в реальности…
Я поступаю так, как я только что описал.
Но вы же не единственный куратор на свете.
Да, но я вношу свой вклад. Я с самого начала был среди художников, я провел с ними всю жизнь. Я отдыхаю с ними в отпуске, я каждый день хожу по их мастерским, и все, что я делаю, это результат моих с ними бесконечных бесед. Все свои самые успешные выставки я курировал совместно с художниками. Чтобы не быть голословным: мы только что закончили выставку в Париже Take Me Home (I’m Yours). Это ремейк выставки, которую мы двадцать лет назад делали с Болтанским и другими художниками в лондонской галерее «Серпентайн». Это была одна из моих ранних выставок. Правила игры этой выставки таковы, что с нее можно убрать все что угодно. Если я как куратор решаю, что буду делать выставку, на которой посетители могут убирать работы, я могу представить реакцию художников. Они скажут, что я инструментализирую искусство. Но все случилось по-другому. В 90-х Кристиан Болтанский выставлял произведение «Рассеяние» – большую кучу одежды, которую посетители могли забирать с собой. Эта идея при-
шла в голову другу Болтанского Феликсу Гонзалесу-Торресу. Он хотел, чтобы произведение искусства просачивалось в общество. Сегодня плакаты Гонзалеса-Торреса висят у миллионов людей. Уверен, что в России они у кого-
нибудь висят. Он просочился в мир миллионами плакатов, и само произведение искусства неизбежно исчезает. Итак, вот Феликс Гонзалес-Торрес, вот Кристиан Болтанский, а кроме того, я выяснил, что Флуксус, Элисон Ноулз, Йоко Оно и другие тоже с этим работали. Мы узнали, что художники всех поколений это делали. Так получилась выставка. Болтанский был сокуратором. Я часто курирую выставки вместе с художниками на основе разговоров с ними. В моем случае кураторская работа всегда следует за искусством, и я всячески пытаюсь насаждать такой подход.
Вы согласны с тем, что этот ремейк старой выставки, о которой вы рассказали, это создание ничто? Оно пусто, потому что ничего не создается, все исчезает.
Что вы имеете в виду?
Выставка идет месяц и медленно исчезает, люди все растаскивают, и в итоге ничего не остается.
По плану можно добавлять элементы, когда достигнута некая критическая точка.
Я, скорее, говорил об исчезновении в большем историческом масштабе, когда есть на что оглянуться. В случае с этой выставкой оглядываться будет не на что.
Я не согласен. Я радикально не согласен.
Замечательно! Не надо соглашаться.
Я абсолютно не согласен. Стихи живут столетиями.
Стихи – да, но это не отменяет того, что на этой выставке показано ничто. В историческом масштабе она никакого следа не оставит.
Чем бы вы ни занимались как куратор, вся ваша работа исчезнет, даже если она связана с материальными предметами. Например, я делаю выставку Матисса, но завтра она закончится, притом что произведения Матисса продолжат существовать. Перед куратором всегда стоит эта проблема: все, что я делаю, исчезнет. Когда мне только исполнилось двадцать, я невероятно ревниво относился к театральному режиссеру Питеру Бруку, потому что у него есть репертуар. Он может обратиться к своему репертуару и сыграть из него, скажем, номер 67 или 72. Мне тоже так хотелось. Именно из этого выросли выставки Do It и Take Me Home (I’m Yours). И вот сейчас 2015 год, и мы в Париже снова делаем Take Me Home (I’m Yours). А через пятьдесят или сто лет новые художники, возможно, сделают еще один ремейк. Уже без нас.
То есть для вас выставка – это репертуар, как бы партитура?
Да, но партитура… Пьер Булез говорил о партитуре для партитуры. То есть кроме собственно нот есть еще все то, что знает композитор, – партитура партитуры, которая очень важна, поэтому мы и должны брать интервью у композиторов. Знаете, Арво Пярт сейчас очень мало времени уделяет сочинительству, почти ничего не пишет; он работает со своим архивом, то есть с партитурой партитуры, чтобы через 200 лет его исполняли так, как он хочет. Кстати, выставка Do It, насколько мне известно, самая затаскан-
ная выставка в истории западноевропейского искусства: она проходила 186 раз на всех континентах. Собственно, начиная с 1992 года, когда открылась первая выставка Do It, она не прекращалась ни на один день. Прямо сейчас она идет в трех городах. И вовсе не исчезает.
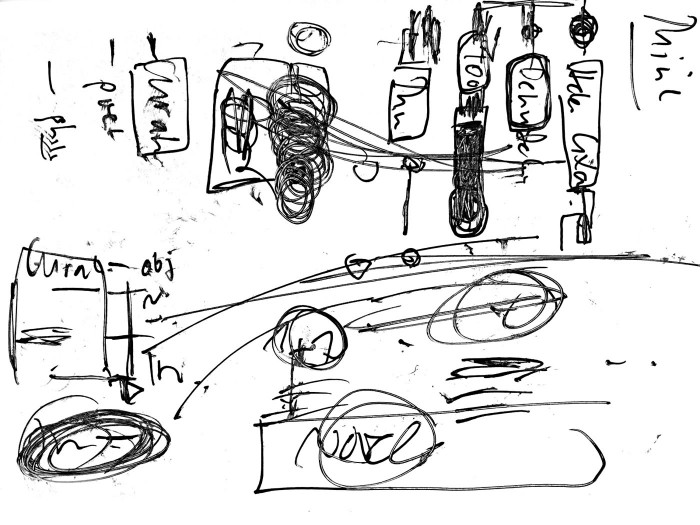
Позвольте немного сменить направление нашей беседы. Что бы вы предпочли: изменить мир или изменить свое сознание?
Я предпочел бы и то, и другое.
Прекрасно. Что бы вы изменили в сознании?
Мне надо об этом подумать. Серьезный вопрос.
Можете подумать сейчас.
Я и думаю… Наше сознание блокирует какие-то вещи, и это мешает нам… Я всегда спрашиваю у художников, писателей и поэтов: какие у вас есть нереализованные проекты? У нас в голове самые разные идеи, за которые мы не отваживаемся взяться. Если эти барьеры убрать…
Какие у вас главные барьеры?
Для этого надо спросить о моих нереализованных проектах. Главный из них, как ни странно, это большой дворец…
В котором художники живут и мечтают о своих проектах.
Да, а еще написать книгу о своих сновидениях. Все не решаюсь за это взяться – как раз из-за барьеров.
А в чем состоят эти барьеры, мешающие вам реализовать все эти проекты? Страх? Социальный статус? Что?
Нет, я думаю… Барьеры – это ограничения, препятствия.
Но они существуют в вашем сознании или объективно?
В сознании. В 90-х мое поколение вдохновлялось словами Феликса Гонзалеса-Торреса: «Надо просачиваться» – что он и делал. Это означает, что нам надо опираться на существующие институции, и я до сих пор не дерзнул…
Создать новую институцию?
Да, хотя мне очень хочется, но есть вещи, которые этому препятствуют. Это один из возможных примеров.
А что бы вы хотели изменить в мире? Если это слишком широкий вопрос, можно сузить до мира искусства.
Это очень широкий вопрос.
Но ведь искусство – это крохотный мир, разве нет?
Нет, но я отвечу на вопрос в первой формулировке, потому что это хороший вопрос. Существует много вещей, которые мне хочется изменить, но одну особенно. Вот я их изображу в порядке убывания важности… (рисует).
Когда я был подростком, мой приятель сказал, что хочет изменить лишь одну вещь во всем мире: чтобы женщина могла зачать только во время оргазма. В остальном с мирозданием все в порядке, но вот зачатие без оргазма – это проблема.
Моя большая приятельница поэтесса Этель Аднан говорит, что идентичность смещается. Идентичность – это выбор. Свобода преобразования себя – вещь чрезвычайно важная.
Во что вы хотели бы преобразоваться?
Мы только что сделали в «Серпентайн» выставку «Марафон преобразований». Я превратился в Хайнера Мюллера, а Доминик Гонзалес – в Пину Бауш, и это было очень приятно. Самое важное, что мы живем в мире, который… и кстати, это первое, что я ищу в произведении искусства, – что оно космополитично, не ограничено одной нацией, что оно одновременно глубоко локально и совершенно глобально. Великий художник сразу локален и глобален. И это возвращает нас…
Вы хотите передвинуть границы, как Дональд Рамсфельд?
Ни в коем случае. Я скорее Эдуард Глиссан, чем Дональд Рамсфельд. (Смеется.) Я считаю, что Глиссан – самый подходящий для XXI века интеллектуал.
Я не читал его романов, но его идея, что мышление скорее архипелаг, чем континент, кажется мне интересной.
Мне тоже. Континенты высокомерны и все гомогенизируют, а архипелаги гостеприимны и дают приют. Мне бы, конечно, хотелось перевести мир с континентальной логики на логику архипелага. Еще мне бы хотелось, чтобы мы больше слушали других и менялись сами. А еще у Эдуарда Глиссана есть понятие mondialité… Я действительно его каждое утро читаю. Ритуал у меня такой. Тарковский говорил, что нам сейчас не хватает ритуалов; даже если сливать в туалете водой из стакана – пусть такой, но ритуал. Мне тоже так кажется, поэтому я ввожу в свою жизнь ритуалы. И один из них – читать Эдуарда Глиссана. Каждое утро, проснувшись, я читаю его 15 минут. Он показывает не только то, как мы живем, но и как мы можем измениться. И я хочу, чтобы в мире было больше mondialité.
Не могли бы вы пояснить это понятие?
Это французский термин, который очень сложно перевести.
Глобальность?
Глобальность слишком близка к глобализации, а она склонна к гомогенизации. Глиссан говорит, что человечество не впервые живет в эпоху глобализации, такие эпизоды уже случались. Но сейчас самый жестокий, самый экстремальный этап глобализации, и он связан с технологиями. Разумеется, процесс гомогенизации таит в себе огромную опасность.
И чем она опасна?
Гомогенизация ведет к исчезновению видов, в том числе в конечном итоге нашего вида. То есть речь не только о пандах и прочих милых зверушках. Есть еще много-много исчезающих микроорганизмов. Про пчел сейчас более-менее говорят, но есть и много других примеров… Когда вы последний раз видели сороконожку? Я последний раз – году в 1985-м, еще когда был подростком.
Скучаете?
Конечно. Происходит массовое вымирание видов, причем не только организмов, но и культур, языков. Это следствие гомогенизации и глобализации. И мне бы очень хотелось это изменить. Глиссан говорит, что мы должны противостоять массовому вымиранию, но не впадать в другую крайность. Под ней имеется в виду концентрация исключительно на локальном, отказ от глобального диалога, который может привести к ксенофобии, национализму и т. п. Мы должны использовать возможности глобального диалога, не аннигилируя различия, это и есть mondialité. Это пестование различий, отказ от уничтожения видов во имя обогащения глобального диалога. Для меня это очень важное измерение, и что бы я ни делал – книгу, персональную или групповую выставку, – они должны этому способствовать.
А как искусство помогает противодействовать гомогенизации?
Разными способами. Этим летом мы с моим другом Даниэлем Бирнбаумом открыли в стокгольмском Му-
зее современного искусства выставку «Вавилонская башня». Вы знакомы с Даниэлем Бирнбаумом? Вам надо обязательно с ним познакомиться – он единственный из моих друзей философ, написал диссертацию по Гуссерлю, а потом стал директором музея. Вавилонская башня, как правило, ассоциируется с какой-то угрозой, а ведь так быть не должно. Искусство, как и Вавилонская башня, – это торжество множества языков. Ваш вопрос, по сути, касается того же, о чем была эта выставка. Мы пригласили на нее Саймона Денни и Алессандро Баву, чтобы они построили новую Вавилонскую башню, воспевающую многообразие.
Однако мой вопрос касался силы искусства. Способно ли искусство что-то изменить, на ваш взгляд? Выставку, возможно, поняли и оценили несколько образованных людей, которые и без нее это понимали.
У нас была очень длинная дискуссия, когда мы готовили выставку Леона Голуба. Была еще конференция в «Серпентайн» об искусстве и политике, и там главный вопрос сформулировал Адам Кёртис: «Удавалось ли искусству изменить мир? Джон Хартфилд не остановил Гитлера». Были очень ожесточенные споры среди художников. Я тогда сказал, что неправильно утверждать, будто искусство ни на что не влияет. «Плот “Медузы”» Жерико был политической картиной, которая привела к отставке правительства.
Да, но искусство крайне редко приводит к таким последствиям. Хотя оно явно обладает какой-то властью. Именно в этом мой вопрос: что это за власть?
Искусство обладает огромной властью.
Не могли бы вы ее описать?
Тот же «Плот “Медузы”» Жерико – показательный пример. Это историческое полотно, которое попало во Францию из Англии и оживило там прежде ограниченную дискуссию, в конечном итоге оказало огромное влияние на политическую ситуацию. То есть иногда произведение искусства обладает непосредственной властью. Однако искусство существует в длительном времени – longue durée, выражаясь словами Фернана Броделя, – на него можно смотреть снова и снова, и оно не устаревает, оно может влиять на жизнь веками. Это второй момент. Есть и третий: мы живем в эпоху, когда многие общества стали светскими. Как говорит Герхард Рихтер, «искусство – это высшая форма надежды», а мы не можем жить без надежды.
Но он добавляет, что это безумная, сумасшедшая надежда.
Да, действительно сумасшедшая, но все равно это согласуется с тем, что говорил Эрнст Блох. Когда Адорно прижал того к стене и потребовал определить, что такое утопия, Блох ответил: «Чего-то недостает». Мы взяли это «чего-то недостает» в качестве отправной точки для выставки Utopia Station в 2006-м, которую я курировал вместе с художником Риркритом Тираванией и искусствоведом Молли Несбит. Мы построили полустанок в Венеции, над которым работало много художников.
Чего недостает в мире искусства?
Я думаю, ключевая вещь – щедрость. На днях Болтанский сказал, что нам нужно больше щедрости, а Этель Аднан – что «щедрость – это долгий путь». Это крайне важно особенно сейчас, в эпоху всеобщей коммерциализации. Не забывать. Именно поэтому мы сделали ремейк выставки Take Me Home (I’m Yours) двадцать лет спустя в условиях растущей коммерциализации. Сейчас даже интернет начал коммерциализироваться, хотя изначально это опенсорсный проект. Создатель интернета Тим Бернерс-Ли, с которым я познакомился в прошлом году в Лондоне, сказал мне, что он очень обеспокоен тем, что интернет все больше и больше коммерциализируется, и то же самое происходит в мире искусства. На этом долгом пути недостает щедрости. И еще времени. Я думаю, нам надо освободить время. Филипп Паррено и Пьер Юиг основали замечательное общество в середине 90-х – Общество освобожденного времени. Люди так спешат, что стоят перед «Моной Лизой» всего несколько секунд. Нам надо освободить время, создать ситуацию, в которой люди могли бы больше его тратить. Это ключевая задача, касающаяся не только искусства, но и общества в целом. Я встал на этот долгий путь, еще когда был студентом. Я открыл искусство, когда мне было двенадцать. К 17–18 годам я чувствовал потребность путешествовать по всему миру и смотреть искусство. Я передвигался на ночных поездах, изъездив так всю Европу. Это стало началом моего гран-тура. С 1987 по 1993 год я ничего не производил. Я немного учился, но больше всего путешествовал.
То есть это был ваш период обучения?
Да, но сейчас люди уже на втором курсе университета что-то производят. Нет больше никаких гран-туров. И их недостает.
Как куратор вы производите впечатление человека гиперактивного, вы везде, вечно заняты. Когда же вы думаете?
Думать можно разными способами. Во-первых, я начал гораздо больше спать, чем раньше, потому что Элен Сиксу подарила мне замечательную книгу с описанием своих снов. Я очень хочу написать что-то похожее, а если не спать, снов не бывает. Поэтому я нашел себе ночного ассистента – Макса Шеклтона. Он из тех, кто живет только по ночам. Я, как правило, ухожу домой не раньше 11 или 12 часов вечера и всегда часок работаю с Максом, а потом сплю 6–7 часов. То есть ночной ассистент дает мне возможность спать и видеть сны. А во сне можно думать.
Вы думаете во сне?
Да, именно так. А еще я разрываю связи. Мне кажется, что в ХХI веке, чтобы думать, надо разрывать связи. По-другому и думать-то нельзя. В таких разговорах, какой мы сейчас ведем, всегда начинаешь говорить о разрыве связей. (У Обриста звонит телефон, он разговаривает со своим ночным ассистентом.) Прошу прощения, это исключительный случай – обычно я не смотрю на телефон во время таких бесед. Я такие беседы веду каждый день, у меня обычно берут по интервью в день, и это очень важно, потому что помогает сосредоточиться. В этих интервью я тоже разрываю связи. Кстати, когда я иду в мастерскую к художнику, я никогда не говорю по телефону. Я всегда сосредоточен на разговоре. Третий пример того, как я думаю, – это в конце дня и один час с утра, когда я работаю с Максом, занимаюсь своими книгами. То есть я думаю в начале дня и в конце. Кроме того, я думаю во время путешествий. Я езжу куда-
нибудь один-два раза в неделю, обычно на выходных. Как правило, далеко и на поезде. До сих пор предпочитаю ночные поезда. Иногда приходится лететь, но если есть возможность поехать поездом, всегда выбираю ее. В долгих путешествиях я читаю, пишу, думаю.
Я обратил внимание, что когда вам задают какие-нибудь важные вопросы, вы отвечаете цитатами. Можно составить список цитат, которые вы регулярно повторяете. К своему удивлению, ваших собственных мыслей я не нашел. Поэтому задам такой вопрос: какой была ваша первая мысль, которая родилась в результате вашего личного акта понимания?
Это интересный вопрос. Я не романист, не писатель, не поэт, не философ. Я работаю куратором. Я соединяю. Связываю. Складываю. То есть то, как вы меня описали, это и есть по большей части моя работа. Курировать – значит соединять предметы, квазиобъекты – цитирую философа Тимоти Мартина – с гиперобъектами. Тема может быть любой – климат или еще что-нибудь важное. Еще я соединяю людей. Приведу пример. Я привожу на выставку Доминик Гонзалес. Еду с ней в Гранаду и знакомлю с Энрике Вила-Матасом. Это соединение. Энрике Вила-Матас и Доминик становятся друзьями. Он пишет предисловия к ее каталогам, она пишет ему письма. Энрике написал роман о Доминик Гонзалес. Я не автор этого романа, но без меня его бы не было.
Я понимаю и восхищаюсь тем, что вы делаете, – соединяете людей, создаете новые связи. Я тоже этим занимаюсь и знаю, как это приятно. Но мой вопрос касался вашего собственного понимания и мышления. Вы сразу сказали, что это не ваше дело – вы не писатель и не философ.
Я отвечал на вопрос о цитировании.
Да, но это была первая часть вопроса. Вторая касалась вашего собственного понимания и собственных мыслей, его выражающих. Ведь другие поняли что-то, и вы берете их мысли, которые считаете подходящими, работаете с ними. А если серьезно – есть ли у вас свои мысли, поняли ли вы что-то сами?
Это пусть другие судят. С моей стороны было бы абсурдом претендовать на это.
И все же, если я вас спрошу: удалось ли вам что-то понять?
Зависит от того, о каком периоде моей работы вы спрашиваете. Возьмем, например, лондонский. Я живу здесь с 2006 года, то есть уже десятый год. Когда я сюда приехал, мы начали делать марафон – я придумал этот фестивальный формат, гибрид групповой выставки с конференцией, который длится от 24 до 48 часов. Все это соединение точек имеет своей кульминацией марафоны, на которых встречаются работы, люди. Если вы посмотрите на темы последних марафонов, то это мои идеи, насущные проблемы современности – например, исчезновение видов, тема последнего марафона. Мне кажется, я понял, что нам надо обратить внимание на эту тему. Можно сказать, что темы марафонов субъективно отражают мое мышление. Наверное, таков будет мой ответ.
Тут ключевое слово «насущный». Что делает встречу, человека, работу насущными?
Приведу пример, касающийся выставки про исчезновение. Я считаю, что ситуация требует неотложных мер. У нас остается мало времени, множество видов под угрозой исчезновения. Когда мне было шесть лет, я попал в аварию и несколько недель находился на грани жизни и смерти. Когда у тебя есть такой опыт, ты всегда чувствуешь, что каждый день может оказаться последним. Меня все время спрашивают: зачем столько всего делать, зачем сотни книг, по книге в неделю, по выставке в неделю? Я думаю, что это связано вот с этой детской травмой. Это остается навсегда. Но есть, конечно, и более философское объяснение. Когда я просыпаюсь утром, я встаю с… сейчас действительно встаю с кровати, потому что по-настоящему сплю, чтобы видеть сны. И когда я встаю, то спрашиваю себя каждое утро: как я могу что-то улучшить, какой результат достичь, как не провести этот день впустую? Надо стремиться чего-то достичь. Я всегда спрашиваю себя, чем могу пригодиться. Чувство насущного связано с вопросом о том, как я могу оказаться максимально полезным этому миру. Сначала этот вопрос касался только художников. Теперь общества в целом. Изначально это было связано с тем, что я тусовался с художниками, а художники самые важные люди на свете, и…
Художники действительно самые важные люди на свете.
Да, художники в широком смысле – философы, поэты, интеллектуалы. Как говорил Йозеф Бойс, расширенное понятие художника. Я тоже так думаю, вряд ли мы запомним наше время по фамилиям политиков. Мы знаем мало политиков времен Шопенгауэра, а вот Шопенгауэра и Гойю помним. Одним словом, я хотел провести свою жизнь с художниками, поэтами и архитекторами и в какой-то момент, когда мне было 15, спросил себя: чем я могу быть полезен? Какая от меня польза? Как стать катализатором, помощником? А потом я в какой-то момент спросил себя, как вырваться за пределы мира искусства и стать полезным для общества? И я задаю себе этот вопрос каждое утро. Это позволяет расставить приоритеты, думать о насущном.
Приносит ли искусство пользу обществу?
Да, конечно.
Мне казалось, что высокое искусство, которое выставляется в галерее «Серпентайн» и других элитных местах, это просто сигнальная система, позволяющая элите ориентироваться внутри себя.
Нет, я должен вам возразить.
Ну, это не мой взгляд. Это Бурдьё.
Да, но тут я должен возразить и Бурдьё в том, что касается «Серпентайн», потому что туда бесплатный вход и за год галерею посещает миллион человек. Так что никакая это не элита. Это как парк. Вход бесплатный, и нам это важно – это английский принцип. Сейчас бесплатный вход находится под угрозой, потому что в газетах пишут, что все бесплатное под угрозой, и мы должны за него сражаться.
Как по-вашему, почему так много людей думает, что мир искусства в его сегодняшнем виде – это сплошь притворство, обман, мыльный пузырь?
Потому что когда открываешь газету… Мой отец умер, матери за 80, она живет в швейцарской деревне. Я прошу ее каждый год вырезать статьи об искусстве и культуре из местной газеты, у которой тысяч восемь читателей, и складывать в конверт. В конце года, на Рождество или Новый год, получается солидный конверт. Поэтому я знаю, что именно из нашего мира доходит до этой деревушки в Швейцарии. В 80-х, когда я был подростком, эта газета писала о грандиозной выставке Энди Уорхола «Тайная вечеря» в Милане, о Йозефе Бойсе и его социальной скульптуре и тому подобных вещах. Меня это вдохновляло, и в 13 лет я решил стать куратором. Когда читаешь вырезки из газет за этот год, которые сделала моя мать, хочется плакать, потому что там только результаты аукционов, только рынок. Это адресовано очень узкой группе людей. Я не имею ничего против арт-рынка. Важно, что он существует, он часть реальности. Но проблема в том, что он занимает все доступное пространство.
Но вы в этом фальшивом мире не играете никакой роли?
Нет.
В рейтинге важных фигур мира искусства по версии журнала ArtReview вы занимаете верхние строчки. То есть играете важную роль в мире искусства, в том числе на арт-рынке.
Нет, я с этим не согласен. Но опять же – я не выступаю против рынка. Но если вы посмотрите на рейтинги ArtReview, вы увидите, что я там один из немногих, кто занимается кураторством, а не рыночными сделками.
Но тогда почему же вас считают такой влиятельной фигурой в мире искусства? Из-за вашей плодовитости, из-за количества книг и выставок?
Нет. Не знаю. Пусть другие решают.
Но должны же у вас быть какие-то предположения.
Не особенно. Я никогда не оглядываюсь. Я считаю, что человек интересен настолько, насколько интересен его следующий проект. Если я буду оглядываться и думать о достижениях, почему я тот, кто я есть… Я больше всего думаю о том, что сейчас насущно и каким будет мой следующий проект. И в этом отношении меняться я не хочу. Мне важно это почти детское желание – отказ расти. Первый раз самый запоминающийся. Но мне понятен ваш вопрос. Не думать об этом наивно. И да, я иногда размышляю об этом, но опять же – власть всегда принадлежит художникам. Никто не ходит на могилы кураторов, я прекрасно это понимаю. Моя работа…
Ну, на могилу Дягилева народ захаживает.
Да, и он мой главный герой. Его деятельность приносила пользу: он создавал великих художников. И его до сих пор за это ценят. Он соединял точки – я считаю, что в этом отношении он один из величайших мастеров ХХ века, но все равно главным остается художник.
В Риге группа людей пытается создать музей современного искусства. Не могли бы вы, опираясь на свой опыт работы с музеями, галереями, выставками, описать идеальный музей современного искусства ХХI века?
Это последний вопрос?
Да, последний серьезный.
Дело в том, что… Это должен быть многомерный музей. Теория струн описывает 11 измерений, так что и тут должно быть не меньше. Это архипелаг, а не континент, говоря словами Эдуарда Глиссана. Это институция, которая сознает, что для того, чтобы понять процессы в искусстве, надо понимать, что происходит в науке, литературе, музыке. Это не изолированная институция. Это институция, которая преодолевает границы. Институция, в которой есть быстрые и медленные полосы, возможность ускориться, – нельзя забывать, что формой протеста может быть не только замедление, но и ускорение. В ней должны быть тихие и шумные зоны. Как говорил Седрик Прайс, это институция, являющаяся катализатором перемен. Катализатор перемен, но в то же время поле для неторопливого рассматривания. Это должен быть музей, который не утратил качеств XIX века – их нельзя терять, – но в то же время обладает качествами XX и XXI веков. Все это должно соединяться, но не как континент, а как архипелаг. Как-то так.
Последний вопрос: что может вас остановить?
Наверное… смерть. Едва ли я перестану заниматься своим делом, потому что оно меня заводит, мне даже передышки не нужны. Иногда я беру что-то вроде недельных каникул, чтобы написать что-нибудь. Финансовые средства мне тоже не нужны. Я могу работать с большими бюджетами и делать большие выставки – я сделал немало бьеннале и показов. Но начинал я с кухонной выставки, которая стоила 200 долларов, где были работы семи художников и 35 посетителей. В любой момент, если я останусь без денег, я могу вернуться на эту кухню.