Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Давайте начнем так: Евгений Марголит (род. 1950) – выдающийся знаток советского кино и старший научный сотрудник Госфильмофонда.
И он – влюбленный юноша.
Я вечно удивляюсь его умению находить хорошее даже в людях, казалось бы, недобрых.
Он ценит в человеке его непохожесть.
В его текстах всегда хорошо слышен авторский голос – и наоборот, он и говорит, как если бы писал поэму.
Как и Наум Клейман, Марголит принадлежит к ламам линии Кагью – это мастер словесной (и устной) передачи опыта. Его надо слышать.
Он – один из очень немногих – умеет разглядеть в старом советском кино подлинную историю народного духа, да так, что перед глазами изумленной публики возникает целая Атлантида. И обычный киносеанс превращается в сеанс телепатии.
Вся проблема рефлексии над художественным произведением в том, что она должна происходить на уровне оригинала. Марголит – великий зритель, равный собеседник великих режиссеров.
А вот для равновесия сравнительная характеристика из одного фейсбучного поста: «Сравнивая подходы к критическому анализу Марголита и критика NN [более политизированного], убеждаюсь, что первый мне намного ближе, потому что у него везде так или иначе шестидесятнический гуманизм и про людей, а не про пространство борьбы. Борьба для меня закончилась, когда я бросил бутылку в окно тренажерного зала, сейчас уже “это нэ” – и в теории, и на практике».
Сложно не упомянуть и книги, которые Евгений Яковлевич пишет теперь одну за другой.
Масштабное исследование «Живые и мертвое» – его опус магнум, соединяющий 1920-е и 1960-е, главные эпохи советского кино, с нашим временем. Задумана биография Козинцева. В сборнике статей «В ожидании ответа» он ищет пропущенные и недолюбленные страницы российского кино, рисует выразительные портреты людей, которые его создавали (Протазанов, Козинцев, Геловани, Довженко, Савченко и др.). На подходе – совместная работа с Олегом Коваловым и Марианной Киреевой «Советский экспрессионизм» – переоткрытие советских шедевров и забытого кино в свете диалога с общеевропейским искусством, своего рода ответ на знаменитые исследования кино Лотты Эйснер и Зигфрида Кракауэра.
По ночам от бессонницы Евгений Яковлевич слушает сайт «Старое радио», недавно он разобрался в советских чтецах Бабеля. Он сказал мне: «Послушайте, как Дмитрий Журавлёв читает рассказ Бабеля “Ди Грассо”. В то время как многие другие чтецы бросаются сразу изображать одесскую манеру речи, Журавлёв лишь в последней трети рассказа (между прочим, от настоящей любви к театру) начинает певуче растягивать слова, и теперь каждое из них наполняется огромным драматическим значением».
Так прочесть и услышать это, а равно и ответить смогут только влюбленные.
Виктор Зацепин

Заниматься советским кино – это в каком-то смысле...
Чуть ли не кино Третьего рейха.
Ну да.
Культурологу, может быть, и раздолье, а с точки зрения живого зрительского восприятия это занятие достаточно мучительное, да?
Видите ли, все гораздо сложнее, хотя было время, когда кино Третьего рейха и советское совпадали чудовищно. Это прежде всего послевоенное кино – то, что у нас называлось «малокартиньем». Но интересно вот что. Было две эпохи в истории кино – это эпоха великого перелома рубежа 20-х и 30-х и послевоенная эпоха малокартинья, которую страстно ненавидели и воспринимали как кошмар сами советские кинематографисты. Видите ли, с одной стороны, революция породила эту чудовищную систему. А с другой стороны, она же породила искусство действительно гуманистическое. Ибо, с точки зрения людей, делавших революцию, ее главной целью было приведение макромира человеческих масс и микромира одной частной человеческой личности в гармонию. Эта мысль мне пришла в голову, когда, представляя один из первых показов фильма – а это был уже 1987 год, перестройка, – Александр Яковлевич Аскольдов, светлая память, говорил: «Я хотел сделать картину про то, как из крови и грязи растет новая, революционная нравственность». Но это ведь картина о том, что происходит катастрофа, одновременно рушится и макро-, и микромир, общего языка найти так и не удается. Гибнет и комиссар, и этот очаровательный Магазинник со всем семейством. В результате открывается пустое пространство.
Так вот, советская система и искусство, порожденные революцией, на мой взгляд, пошли в противоположные стороны. Как человек, сорок лет проживший в этой системе, я прекрасно знаю, что такое официальный советский предписываемый канон соцреализма. И прелесть в том, что именно благодаря моему знанию я очень остро реагирую на отклонения от этого канона. Так вот, подлинные произведения советского искусства, кино в том числе, возникают в результате отклонения, в результате избыточности. Они в этот канон не укладываются. То, что укладывается в канон, эстетически может быть даже совершенно. Правда, эстетическое совершенство можно увидеть и в «Триумфе воли», который по своей бесчеловечности равен «Падению Берлина».
И я с изумлением обнаруживаю, что чем дальше, тем острее мои студенты на Высших курсах сценаристов и режиссеров реагируют на все советское. Для них практически все, что сделано в советское время, – агитка. Притом что я показываю им и «Потемкина», и «Окраину», я показываю безумный, замечательный «Аэроград» Довженко, роммовскую «Мечту», и это все – агитка… Я не могу до сих пор внятно ответить почему, но для себя я объясняю это вот чем. Российская история вообще движется не эволюциями, а революциями. Она движется постоянно и снова, ничего не перерождается постепенно, а в какой-то момент ломается одна эпоха – именно ломается, и ей на смену приходит следующая. И давится следующая эпоха предыдущей, как непереваренным куском, глотаемым с жадностью. Понимаете? А поскольку это поколение уже не знает канона соцреализма, как знали и ощущали его мы, они, просто ощущая призрак минувшего за спиной, от него отмахиваются. Именно потому что советская эпоха до конца не осмыслена, не переосмыслена, а просто советский зритель, если угодно, сменился антисоветским зрителем. Вот показываю «Окраину». Это, конечно, одна из самых пронзительных, самых человечных картин в мировом кино, за душу хватающая. Смотрят как-то настороженно, ерзают. «Что, – говорю, – вас не захватило?» – «Вы знаете, странное кино. Вот батальные сцены – не понятно, кто с кем дерется». Я говорю: «Но ведь режиссер же этого и добивается. Одни люди убивают других людей, и вот один вытирает пот и говорит: “Господи, когда же это кончится?!”» Они этого не видят. Я в конце концов принимаю зачет в письменном виде: предлагаю выбрать советский фильм, который с точки зрения выбранной профессии произвел наиболее сильное впечатление. И чуть не половина предыдущего выпуска, года три назад, писала о «Весне на Заречной улице». Причем что писали? «Какое светлое, доброе кино!» При всем моем восхищении Марленом Мартыновичем Хуциевым – опять же, светлая ему память – это как раз картина, которая у меня не вызывает особых эмоций. Потому что «Весна» – это опять-таки нечто каноническое, это соцреалистическая версия оттепели, то есть оттепельная версия социалистического канона. В ней нет того, что будет главным у Хуциева дальше, в картинах, которые я могу пересматривать бесконечно, – прежде всего, простите за игру слов, в «Бесконечности». Там есть то, что мой коллега Александр Шпагин назвал «экзистенциальной тревогой».
Знаете, даже «Броненосец Потемкин» или того же года любимая моя «Катька – бумажный ранет», где героиня подбирает... Видели, да?
Нет, не видел.
Ой! Совершенно божественное кино. Там в Ленинграде времен НЭПа деревенская здоровая деваха сходится с главарем местной шпаны, беременеет от него, а потом он, значит, глядит куда-то в сторону, и она подбирает на улице бездомного юного интеллигента из бывших, у него и кличка – Интеллигент. И понемножку она его начинает опекать, находит ему место по принципу «всякая соринка в избе пригодится». Пафос в том, что и этот самый персонаж Интеллигент – из бывших, и ему находится место в прекрасном мире будущего, причем, как писала Нея Марковна Зоркая, все завершается улыбкой младенца, которому он становится подлинным отцом. Вот там как раз этот гуманистический, человеческий пафос.
Гуманистическое начало в советских фильмах вы видите именно в сопоставлении отдельного человека с массой. Как раз это-то мне и неприятно: в таком кино всегда нужно от социальности либо отталкиваться, либо напрямую в ней участвовать. И тогда мы специфику кино как искусства переносим в тему и пафос. А вот, скажем, Фасбиндера мы любим не за его социальную тематику, а по каким-то совершенно другим причинам, и уж точно не за гуманность.
На мой взгляд, все подлинное советское кино – визионерское. С другой стороны, сама специфика кино как искусства, обращающегося в XX веке к реальному материалу, к наличной реальности, неизбежно делает изображение избыточным.
Так ведь то, что избыточно, в основном и является искусством.
В том-то и дело. То, что является стихийным, непредсказуемым, то, что вроде бы мешает исходному замыслу, – именно это в кино проявляет действительную суть, особенно если произведение рассматривать как вопрос, задаваемый реальности. Это нахождение общего языка с ней, правильно?
Я мог бы согласиться, если бы знал, что такое реальность. Вы уже сказали «наличная реальность» – тут мы можем без лишних теоретических обоснований сказать, что это то, в чем мы живем. Но люди живут в разных средах. У Венички реальность, пожалуй, будет другой, чем у какого-нибудь Бондарчука.
Я тут зимой пересматривал на широком формате «Войну и мир» – это идеальный вариант советского широкоформатного кино. Единственное место в стране, где осталась аппаратура для 70-миллиметровой пленки, – это Госфильмофонд. И я понял, что это вообще одна из самых антиреалистичных картин, если подразумевать под реализмом традиционный соцреализм или даже критический реализм: тяжелая жизнь крестьянства, постижение жизни народной, et cetera. Эта картина сделана абсолютно по сновидческой логике, она так смонтирована. Да, Бондарчук – человек с явными проблесками гениальности, он человек дикий, у него преобладает интуиция. Что такое «Война и мир»? Это сон о России. У него в первой же сцене переход из интерьера салона Шерер в гостиную князя Болконского камера совершает без всякого затемнения, она просто едет. И мы чисто по логике сна оказываемся в другом интерьере. Пьер сидит у Ростовых за столом, и вдруг застольный разговор и звон посуды сменяются отходной молитвой – отпевают старого князя Безухова, и только через несколько секунд сдвигается изображение и появляется его интерьер. Кстати, там есть один совершенно гениальный ход. Обратили ли вы внимание на то, как в сцене смерти Пети Ростова исчезает цвет? В цветном кино 1960-х годов, которое наконец открыло световую драматургию, контраст, непременно должны были появиться черно-белые куски, которые означали либо прошлое, либо, что гораздо интереснее, пограничное состояние между жизнью и смертью, как в «Тенях забытых предков» у Параджанова. Так вот, когда погибает Петя Ростов, исчезает цвет, это понятно. Но там краски гаснут за несколько секунд до того, как раздается выстрел. Мальчик еще не убит, но все уже состоялось. И это предчувствие смерти убирает краски с экрана. Это абсолютно не традиционный жизнеподобный способ мышления. И вот на нем построено все наше кино.
Вы писали о фильме Хлебникова «Свободное плавание», что новое поколение нашло форму, придумало, как работать с той реальностью, которую они не понимают, не хотят понимать и за которую не берут на себя ответственность. Неужели вы считаете, что кино ответственно за что-либо, кроме того, чтобы быть идеальным? В том смысле, что «плевать я хотел на реальность, я хочу сделать хорошее кино, и это моя единственная ответственность».
Видите ли, я вырос в эпоху, когда кино было едва ли не главным средством познания реальности. Скажем, вы, наверное, знаете, что для людей 1960-х главный художник – это Феллини. И одна из главных картин – не только для кинематографистов, а что замечательно, также и для зрителей (она дважды выходила в советский прокат) – это «Ночи Кабирии», где финал возникает вопреки всему, к чему нас, кажется, ведет режиссер. Фильм вроде про то, что невозможно вырваться, что повсюду царит эта чернуха, а в результате получается как у Бродского: «Видишь вдруг как бы свет ниоткуда». И вот только для этого все и сделано. Мне кажется, наша культурная традиция, если хотите, состоит в этом визионерстве, в двухэтажности. Одна из самых главных картин для меня, русских...
Да, какая?
Это «Брат». Вот. Почему?
Странно слышать, да.
Это кино, которое я смотрел раз десять. Гениально простая картина. На одном этаже пришли мочить за долги, там бьются в истерике, он поднимается этажом выше, а там сидят все его боги и поют свои песни. Ведь элементарный ход. Это дает персонажу способность услышать зов сверху, этот голос Бутусова, «Наутилус Помпилиус». Причем он же не может различить смысл, но он его ощущает. И по существу, по-человечески, он, конечно, гибнет. Ему объясняют: все, ты погиб, парень, потому что ты не понял, что пушкой своей ты справедливость и мировую гармонию не устроишь. Нет, Балабанов, конечно, совершенно волшебный человек. Подлинно русский художник именно в том, что он знает, что за этой вот сиюминутной реальностью есть нечто более высокое. В этом смысле есть еще один великий русский режиссер: это Расторгуев. Видели, конечно, да?

Только «Дикий пляж».
Казалось бы, что может быть более страшным, чернушным? Персонажи омерзительны. Но вы знаете, что второе название фильма – «Жар нежных», название абсолютно буквальное, нет никакой иронии. И на эти несчастные существа, которые, по-моему, и дара речи-то лишились и не в состоянии объяснить, что они, кто они, Расторгуев смотрит не отводя глаз, тянет, заставляет нас не отворачиваться, пока не увидим в них этот проблеск человеческого. Чего стоит история с верблюжонком! И на чем она держится? На «Белеет парус одинокий» Лермонтова. Одна из главных лакмусовых бумажек для меня – насколько автор видит сегодня ту или иную вещь в рамках культурной традиции.
Я могу это понять только так, что вы требуете, чтобы кино продолжало гуманистическую традицию, которая развилась в XIX веке в русской литературе. Разве такие, как Хлебников, эту традицию, а вместе с ней и вашу двухэтажность не видят?
Не видят.
А может, ее и нету?
Если ее нет, то ничего нет. Не может этого быть! Не может этого быть!
Хорошо...
Кем бы мы были, если бы на самом деле хоть для какой-то эпохи перестали бы существовать и Шекспир, и Пушкин, и Шостакович, господи, или, скажем… ну, кто? Наталья Гончарова, которую я очень люблю? Да нет, все продолжает существовать. Это мы отпадаем. Сегодня отпали.

Волей-неволей в нашем разговоре советское кино превращается в некое общее понятие...
Ну что вы, я же говорю про кино, которое выходит за пределы канона, пускай даже это вполне себе этически невинный канон. Я не люблю, скажем, наше квазинеореалистское кино 50-х годов, даже такие известные картины, как «Чужая родня» или «Тугой узел». Мне не близка «Весна на Заречной улице», вот это доброе кино про добрых, простых людей – оно изгоняет человеческую сложность. Не близко кино второй половины 30-х, которое называли золотым веком, весь этот сталинский стиль, зарождавшийся – слава богу, малоуспешно – на рубеже 20-х и 30-х, в эпоху агитпропа. Он ужасен, он непереварим. Но с формальной точки зрения там могут быть очень даже интересные вещи. Тот же Чиаурели с «Падением Берлина». Может быть, вы видели его знаменитую комедию 1931 года «Хабарда!»?
Нет.
Но это замечательный гротеск. Вот хоронят человека, и он идет, хоронимый, просунув лицо в рамку – пустую рамку вместо портрета. Замечательно, какой сюр! Но простите, это злобный донос на грузинскую интеллигенцию. И пускай он, Чиаурели, с этими своими замечательными сюрреалистическими находками идет куда подальше. Неслучайно кино такого рода перестает быть кино, а послесталинский кинематограф заканчивается просто фильмом-спектаклем, где любой намек на стихийность изгоняется. Это целый жанр фильмов-спектаклей, которые выходят в 1950–1953 годах. Это кино предельно театрализовано.
Но театральность в кино – не обязательно плохо. Вот какой-нибудь Ален Рене со своим «Курить/Не курить»...
Театр, который не выдает себя за реальность, – ради бога! Те же «Кубанские казаки» потому и хороши, потому их и смотрят, что фильм не выдает себя за реальность.
Был такой очень интересный украинско-российский режиссер, Игорь Савченко, автор «Гармони» 1934-го года, которую товарищ Сталин сильно невзлюбил, и «Тараса Шевченко». Очень талантливый, один из немногих, кто в сталинскую эпоху все-таки интересно работает с формой, не может себе отказать в этом удовольствии. Но у него чудовищное каноническое кино времен войны, один фильм ужаснее другого. Одна из самых противных его картин – картина 1942 года по сценарию совершенно мерзкого сталинского драматурга Корнейчука, по пьесе «Партизаны в степях Украины». Там партизаны поднимают приемник, из которого доносится речь Сталина, и Сталин их ведет. Фильм даже не рекомендовано было рецензировать, потому что как раз шла Сталинградская битва. В первой половине войны Сталина стараются вообще не упоминать. Но тут мужичок поторопился! Однако это действительно сделано с любовью к форме. Оператор – Юрий Екельчик, музыку пишет Прокофьев, а от картины просто воротит. Но есть такой глава английских славистов-киноведов, Джулиан Грэффи, влюбленный в наше кино. И вот он мне говорит: «Женя, ну что вы так к этой картине? Это же замечательное, интересное кино!» Того, что это чудовищное искажение реальности, он не замечает. Зато он видит то, чего я увидеть все-таки не могу: он видит формальные достоинства, которые у Савченко безусловны.
Возвращаясь к разговору о каноне: казалось бы, формализм в искусстве 1920-х должен был полностью соответствовать революционному духу той эпохи. Но так вышло, что нет. Постепенно он идет на убыль или его выталкивают, стремясь, очевидно, к некой утопической действительности, которой должно было соответствовать то, что снималось.
Да.
Но это содержательная часть. А мне интересно, как менялся сам стиль – вплоть до того, что он обыгрывался уже совершенно иначе. Рассуждая о фильме Германа «Хрусталев, машину!», вы говорите «большой стиль с большой буквы». Что же означает канон в советском кино?
Я вам скажу. В конечном счете советский канон означает заведомое отвлечение от наличной реальности, абсолютно высокомерное отношение к ней. Сталинский «большой стиль» конца 1940-х, когда он уже окончательно оформляется («Падение Берлина» как его уже самое совершенное творение), и убедителен-то по-своему потому именно, что демонстрирует то, чего в реальности не было и быть не могло. Но реальность, которая развертывается и выстраивается на экране, оказывается подлинной. А той, которая окружает тебя, пришедшего в зал с улицы, на самом деле не существует. А там товарищ Сталин может с неба спуститься, прилететь в Берлин. Вот это истинная правда. А тебе, зрителю, и говорить не нужно, тебе нужно только слушать Сталина, а тому, что тебе нужно уметь сказать, тебя научит учительница Наташа: «За Родину, за Сталина!»
Я вам скажу парадоксальную вещь: все-таки этот канон исходит из формализма 1920-х годов. И не случайно в 1928 году Сергей Михайлович Эйзенштейн выдвигает – естественно, чисто полемически, вовсе не догадываясь, что за этим последует, – лозунг «презрения к материалу».
Что это означало?
То, что нет диалога с материалом, упоения материалом реальности, «необычайной любви кинематографа к реальному материалу» (это цитата из Льва Кулешова), которая порождает диалог между художником и реальностью. Ушла возможность вдохновенного наблюдения, постижения, переживания этой реальности, которая для них прекрасна потому, что она меняется, – она невероятно подвижная, она динамичная. Так вот, всего этого для нашего авангарда уже мало.
Материал – только подручное строительное средство, материал должен повиноваться художнику. Отсюда постоянное, предельное сокращение длины кадра. Кадр уже внутренне становится неподвижным, он работает за счет сверхэкспрессивного, невероятного ракурса, он есть только элемент наблюдения за реальностью, которая восхищает нас в «Третьей мещанской», да и в том же «Киноглазе». Это тот же самый лозунг тотального подчинения – материала, стихии, что исторической, что природной. Какие там диалоги? Никаких диалогов. «Природа – мастерская, а человек в ней работник», – как говорил незабвенный Евгений Васильевич Базаров в «Отцах и детях». И заметьте, что один из самых авторитетных грузинских формалистов – это не кто иной, как Михаил Эдишерович Чиаурели. Это абсолютно закономерно! И тот же Эйзенштейн в конце концов прекрасно понимает, что это кризис, из него нужно выходить, и кадр в «Да здравствует Мексика!» принципиально удлиняется по сравнению с кадрами его последних немых картин.
Для меня вообще одно из свидетельств подлинности кинопроизведения – это длина кадра. Потому что специфика кинообраза, по-моему, состоит в том, что подлинное содержание любого кадра есть переворачивание исходного смысла. Вот нам сначала дана информация, мы зафиксировали ее: ага, это то-то и то-то. Кадр длится до тех пор, пока смысл происходящего по отношению к нашему исходному представлению не перевернется на 180 градусов. Вот тогда кадр закончен. Дело, конечно, не в том, что кадр можно длить бесконечно, хотя не случайно дают такое задание на Высших курсах – фильм, снятый одним кадром. Я уже говорил вам, есть у Марлена Хуциева фильм «Бесконечность», и там есть кадр, где женщина с ребенком переходит улицу из тени в свет, и ты ловишь себя на том, что тебе жизненно важно, чтобы она все-таки из тени вышла на свет и пересекла эту улицу. И кадр длится до тех пор, пока она действительно не выходит на светлую сторону. Она появляется только в этом кадре, ни до, ни после этого этой женщины больше не будет. Но она действительно переходит. И тут ты понимаешь, что это сюжет о жизни и смерти. Я даже однажды, когда получил приз «Белых столбов», набрался спиртного и храбрости и сказал Марлену Мартыновичу: «Как главный киновед года я со всей ответственностью заявляю, что самое великое ваше кино – это “Бесконечность”». И если вдруг произошла бы катастрофа и все фильмы на земле исчезли, а осталась бы только «Бесконечность», тогда все равно все бы поняли, что было на земле такое абсолютно гениальное, сверхвысокое и непостижимое искусство, как кино.
А «Бесконечность» – кино совершенно элементарное, оно длиннющее, но что там происходит? Ничего. Вот сон человека как можно понять? Он переживает кризис среднего возраста и вдруг выходит на рассвете к Чистым прудам, видит юношу и понимает, что это он сам, и отправляется куда-то, садится в электричку, и вдруг оказывается, что он уже не в электричке, а в пассажирском поезде и приезжает в город то ли своего детства, то ли своей юности. Ходит по нему, встречает каких-то людей, потом однажды ночью видит из окна гостиницы, как уходят солдаты на Первую мировую, попадает в какой-то дом, где встречают 1901 год... И все это исполнено такого ненатужного смысла, что не требует никаких разгадок. Ты вот сидишь, смотришь, и тебя всасывает как в воронку, и оказывается, что все, что происходит на свете, говорит только об одном – о жизни и смерти. И что там дальше с нашей жизнью после смерти – продолжается ли она и как продолжается? Вот это возможно показать с помощью такого длящегося кадра, понимаете?
Не вполне. Я не понимаю, почему это связано именно с длящимся кадром.
Это связано с наблюдением.
А кто является наблюдателем?
Художник. Не просто наблюдателем, а переживателем. Это не просто фиксируемая реальность, это переживаемая реальность. Чем отличается, скажем, нынешнее кино, которое претендует на отражение реальности, от того? Нынешний художник в России, киношник, если обращается к материалу реальности, он его заведомо отторгает. Типичный вариант – это Звягинцев.
Он отторгает реальность?
Да, да, да. И все этим заканчивается. Другой реальности для него нет. Поэтому я ни за что не приму Звягинцева и его «Левиафан».
Почему?
Вот когда я вижу Серебрякова, я понимаю, что это актер, который создан для сцены, где мужик садится за руль и сносит бульдозером к разэтакой матери здание администрации. А вместо этого режиссер заставляет его в финале глотать с потерянным видом очередную бутылку водки. Это и есть пафос.
Вы говорили, что формалисты 1920-х годов были родоначальниками тоталитарного взгляда именно потому, что сочли самым главным взгляд наблюдателя, режиссера-оператора. Что именно наблюдалось, было не важно.
Нет, нет, нет. Для них это наличная реальность, то есть только некий строительный материал, не более того.
Хорошо. Но в чем же разница между этими наблюдателями и Хуциевым, который наблюдает при помощи длинного кадра? Он же использует камеру лишь для того, чтобы полнее изобразить то, на что можно посмотреть...
Не лишь для того, а чтобы в процессе движения реальности перед камерой тянуть до тех пор, пока не выявит для себя сущность происходящего.
Но он же строит эту реальность перед камерой. Вот подъезжает машина, вот женщина переходит с ребенком, он выстраивает всю ту реальность, которая нам кажется сущей, и мы забываем, что это художник построил.
Мы не можем это забыть, потому что женщина, в реальности переходящая улицу, не вызывает у нас такого пристального внимания.
Ну какая женщина, знаете ли.
В обыденности. А в случае, когда это становится элементом художественного высказывания, как это становится? Что самое главное в «Заставе Ильича», например? Идут они, опять же, по московской улице, осень, легкий дым от костров, листья жгут. А за кадром – строки из пушкинской «Осени».
Извините, разве в Москве листья жгут?
Жгут.
Это на окраине где-то?
Это в центре. Подождите, а что? А теперь листья разве не жгут?
Нет, в центре не жгут, конечно.
В 1962 году, в мои времена, я так привык, что осенью жгут листья, что это один из главных...
Извините, я вас прервал. Пушкин.
Да, вот этот вот замечательный дымок от костров, листья сжигают.
Там же запах еще.
Конечно, конечно. Один из главных запахов осени.Да, и за кадром Пушкин... И вдруг это прекрасное чтение сбивается на бормотание, мы понимаем, что это про себя бормочет один из героев. Но уже задано в этом сиюминутном пространстве присутствие Пушкина. Хуциев это умел как никто. Все-таки у кино в советскую эпоху – у подлинного кино – была эта способность, они ощущали себя на фоне этого культурного опыта.
Какого опыта?
Опыта классической культуры, будь то национальная классическая культура, будь то Пушкин с Маяковским, будь то музыкальная культура – вспомните цитаты Тарковского из мировой живописи или из кого там... Ну, Баха, конечно, в «Солярисе».
В общем-то довольно простые цитаты.
Да не просто простые – они должны быть элементарные, это знак присутствия.

Возвращаясь к 1920-м годам: в чем же их пафос? Ну, мы должны перестроить мир и вообще забываем, что тот художник, который преображает...
Это пафос крайнего авангарда. Дело в том, что пафос 1920-х годов на самом деле в общей массе другой. Революция задает толчок, и мир сам двигается в правильном направлении. Мир меняется, мир уже принадлежит, как правило, молодым героям. Мир ассоциируется чаще всего с чем? С рекой. Это уже не хаос. Самодвижение жизни, самоорганизация...
Здесь мы можем вспомнить Платонова, у которого то, что происходит, – ужасно, но все знают, что это точно правильно.
Но если мы говорим об авангарде 1920-х, то там очень большую роль играет сам художник. А потом мы вдруг оказываемся в кино, как в 1960-х, где есть какое-то доверие к действительности – не в том смысле, что она правильно течет. Все как бы идет само по себе и должно иметь смысл, не мы этот смысл привнесем в реальность. В этом течении есть свой смысл – для них. Хотя в данный момент оно может быть хаотичным. Осмысленное движение «Заставы Ильича» сменяется броуновским движением в «Июльском дожде». Но в конце концов само движение, извлекаемое из этой повседневности… Как только герой бесконечности покидает бесконечность, сразу становится внятен смысл этого движения. Неизбежная осмысленность этого движения. Архетипическая, если хотите.

Я все же еще раз спрошу, что такое советское каноническое кино.
Ну как? Есть жанры, есть историко-биографический жанр, опять же, в сталинскую эпоху.
«Чапаев»?
Нет, «Чапаев» – это на самом деле замечательное кино о трагедии Гражданской войны. О том, как прекрасно утро революции и только утро революции. Это вещь о том, как история разрывает возникший момент всеобщего единства: отрывает узнавших себя друг в друге Фурманова и Чапаева – и они тут уже оказываются уязвимыми. Отрывает Петьку от Анки, отрывает штаб Чапаева от основных сил. А враг перестает быть рыцарем и поэтому гибнет. Это картина о трагедии Гражданской войны. Сознают ли они это или нет, совершенно не важно – они это ощущают, вот в этом многозначность кино, оно проговаривается. Что касается Бориса Андреевича Бабочкина, любимого моего, он рассматривает сюжет этой картины как трагедию. В нем есть знание об обреченности его героя. Я пытался еще понять, что в нем так зацепило Мандельштама – у него есть это ощущение Гражданской войны как трагедии, когда достигается состояние определенного всеединства, которое немедленно разрушается историей.
О каком всеединстве идет речь во время Гражданской войны?
За Гражданской войной стоит революция, в результате которой герой получает возможность стремительного душевного роста, и этот слом выявляет его высокие возможности. С другой стороны, это узнавание своего в чужом. Значит, эта настороженность по отношению к Фурманову, которая сменяется обретением, это неузнавание – вплоть до того, что он принимает женщину за мужчину, Анку за Петьку – общего языка. И еще: эту картину чуть не запретили из-за белых. Потому что вместо кривляющихся петрушек там был показан рыцарски достойный противник. Там ведь предстают единым целым и полковник, и его денщик. Очень интересная сцена, когда его берут, денщика, перебежавшего к красным, в плен и полковник говорит: «Петрович, ты же понимаешь, что я теперь тебя расстрелять должен». И он ему отвечает: «Понимаю, Сергей Николаевич, попадись вы сейчас мне – я бы вас тоже расстрелял». Его уводят, и этот долгий план стоящего у окна вагона полковника.
Все прощаются друг с другом – Чапаев с Фурмановым, Петька с Анкой, полковник с Петровичем – и гибнут все. Гибнут все. Как ни пытались братья Васильевы сделать несколько вариантов хеппи-энда, они от них отказались. Что такое эти два финальных взрыва? Эта сцена с картошкой. Василий Иванович, разыграв сцену, все сметает. Все, игра закончена! Тут ничего не скажешь. Да нет, тут столько смысла вылезает всякий раз, Улдис!
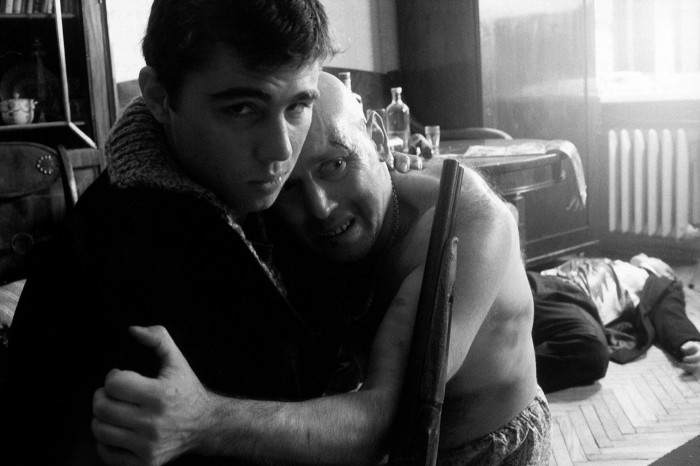
Но ведь в советском кино были не только отклонения от канона, были же и фильмы явно несоветские. Назову только Муратову и Иоселиани – уж Иоселиани-то называть советским было бы смешно.
У меня вообще есть основания полагать, что советское кино заканчивается вовсе не в 1987 или 1989 году. Советское кино заканчивается на рубеже 60-х и 70-х годов. Потому что умирает эта идеология, умирает коллективистский миф, на котором она основывалась. И признаки, да, вот как раз свидетельство этой смерти, где в фильмах... Разве только Муратова и Иоселиани? А «Ирония судьбы» – это что, сильно советское кино? По существу, советского кино в 1970-е уже нет. И оно не антисоветское, оно внесоветское. Потому что там не существует общественной жизни как таковой, а если и существует, то это не жизнь, а кошмар. «Остановился поезд» Абдрашитова. И вообще, существует «Романс о влюбленных» (это 1974 год), который уже совершенно очевидная эпитафия советскому коллективистскому сознанию, портрет за несколько мгновений до того, как оно умрет, окончательно окостенеет. Знаете, что такое парсуна?
Нет.
Это традиция восточноевропейская, она, скажем, на Украине была развита в XVIII веке: на могилах знатных людей помещали портрет умирающего. Именно умирающего, за несколько часов до смерти. Вот «Романс о влюбленных» – такого рода парсуна. Так же как «Сибириада», которая заканчивается страшным судом. Не видели небось?
Страшный суд?
Фильм. Это такой кинороман, наш ответ «Двадцатому веку» Бертолуччи, но, по-моему, гораздо лучше. Там громадное село в начале революции, два рода – бунтари, которые стремятся уйти в открытое пространство, и зажиточные мужики. И тут начинается революция, род-народ, все кончается семидесятыми: опустевшая, крохотная деревенька, где живут всего несколько стариков. Их должны затопить, и тут из земли на кладбище вдруг начинает бить фонтан нефти. Кладбище оцепляют пожарники в белых асбестовых костюмах – ангелы. А из земли на кладбище встают мертвые, и все, кто был в этом фильме, молодые, красивые, прощаются с этими престарелыми стариками и старухами.
Так что, скорее всего, в кино 1970-х и 1980-х вы не найдете живого, полноценного советского фильма.
Я допускаю, что вам ни разу не задавали такой вопрос: что советского в советском кино?
Вопрос замечательный. Что советского в советском кино? С одной стороны, то, что вызывает омерзение, с другой стороны, прямо противоположное: то, что вызывает восхищение. Конечно, омерзителен официальный канон. Поэтому с особой остротой ощущаешь то, что за его пределы выходит. Я понял простую вещь, это я объясняю студентам. В чем одно из главных отличий демократического общества от общества тоталитарного? Для демократического общества и, соответственно, для его культуры один из важнейших источников вдохновения – это человеческое разнообразие. Что касается кино, – и за что я особенно люблю советское кино, скажем, 20-х, 30-х и 60-х – когда оно раскрепощается, его сюжет можно представить себе как панораму по лицам. Камера впивается в каждое лицо. Что касается тоталитарного общества, то это прямо противоположное. Там источник вдохновения – это человеческое однообразие, когда все как один похожи. Это страшно, это Лени Рифеншталь, «Триумф воли», когда камера ловит только одно принципиальное сходство в лицах, Ein Land – ein Volk – ein Führer. В сталинской культуре вообще не существует отдельных лиц, существует эта человеческая икра и ее общий знаменатель, общее воплощение. Как только Сталин умер, тотчас же открываются лица. Оказывается, что эта смерть открывает возможность лиц. Вот гениальная картина – «Ближний круг» Кончаловского. Когда человек чувствует себя только государственным дитятей и поэтому не может на себя взять ни за что ответственность. И как только Сталин умирает, он тут же решается, выхватывает из этой мясорубки девочку и говорит: «Катенька, пойдем домой, там хорошо, там тепло». Все, Сталин умер, он уже может стать отцом. Потому что общий мнимый отец наконец скончался, и теперь каждый обнаруживает возможность своей собственной судьбы.
Я как-то делал интервью с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым. Шел к нему в Вене, а там церковь по дороге ремонтировали, забор вокруг. На заборе была огромная реклама чулок, очень красивые девушки по всему этому забору. Я говорю: «Сергей Сергеевич, вот вы идете в университет мимо этого забора – и тут эти девушки. Куда вы глаза деваете?» Он говорит: «Вот досюда смотрю, а ниже – нет».
(Смеется.)
Вот вы ненавидите советскую идеологию. Как вы смотрите советские фильмы? Досюда смотрите, а ниже нет? Все советское отбрасываем, а истинное оставляем?
Ну да. Наверное, я даже не то что отворачиваюсь от низа, а просто это как-то пропускаю, это само собой разумеющиеся, это некие общие места, которые проговариваются. Но если хотите, это что-то вроде заклинания. Скажем, как в «Радуге» финальная речь героини, которую играет Елена Тяпкина. Это 1943 год. Все заканчивается агитационной речью, обращенной к зрителю, да. Так самое замечательное происходит дальше: пацан поднимает голову, а там радуга. А радуга – это, как известно, знак завета, который бог заключает с народом. Ну и хорошо. Никаких парадоксов вы от меня не дождетесь. И потом, знаете, все-таки я сорок с лишним лет прожил при советском строе, и вот эти штучки, все эти тексты, реплики – это для меня шум. Белый шум.
Шум времени?
Ой нет, Мандельштам здесь ни при чем. Это даже не читается, это как-то идет само по себе – девочки на церкви колготки рекламируют. А если бы мы в те времена обращали внимание на все эти транспаранты, которыми все было увешано, мы бы, наверное, свихнулись.
Вы много говорите о фильмах, которые вас потрясли, например о «Сибириаде». Первый фильм, который меня по-настоящему потряс, – это «Профессия: репортер».
Да, но это не советский фильм.
В том-то и дело. В «Профессии: репортер» в той девушке, которую играет Мария Шнайдер, мы увидели наши мечты, а в Николсоне мы увидели себя. В советском же кино ничего не было про нас. Вот настоящая, отчужденная девушка, абсолютно самостоятельная, которой вообще плевать на все и на всех и которая встречает Николсона и хочет его вытянуть в бытие. И это не о братстве. Это о невозможности пробиться к бытию.
Ну, если это невозможно, то какого черта делать это кино?
Невозможно, поскольку это и есть состояние человека в мире.
Так если это и есть состояние человека в мире, тогда, собственно, и жить не надо. Если хотя бы на пространстве твоей вещи ты не можешь прорваться к этому высшему смыслу, чего же делать-то кино? Я это и без фильма могу наблюдать. Несложно дать общеизвестное. А вот прорваться за пределы этой реальности в высшую, в ту самую вечность, установить контакт – это да. Вот это я понимаю, это кино, это искусство.
Александр Моисеевич Пятигорский однажды сказал довольно интересную вещь – что основных тем в кино на самом деле очень мало. Одна, которую, собственно, обыгрывал Чаплин, – это та самая история маленького человека. Какие еще темы открыло русское и советское кино?
Когда Тарковский приступал к «Рублеву», он говорил в интервью: «Я хочу сделать кино о том, как всенародная тоска по братству породила рублевскую “Троицу”». То, что было в советском кино, мне кажется, самое замечательное, – это всенародная тоска по братству.
Вы сказали «всенародная»?
Это не я сказал, это сказал Тарковский. Существует канонический сюжет разоблачения чужого в том, кто кажется своим: скрытого шпиона, врага, двурушника. Это известный советский сюжет, на нем строятся всякие канонические вещи. И существует противоположное – узнавание своего в том, кто кажется чужим. В любой замечательной советской картине вы это найдете. Вот вам «Потемкин», финальная встреча с эскадрой: «И гордо вея красным флагом свободы, без единого выстрела, прошел мятежный броненосец сквозь ряды эскадры». Или «Окраина» барнетовская: «Какой же он немец? Он сапожник». Или «Путевка в жизнь», как Мейерхольд замечательно сказал, цитирую: «Фильм, который держится на двух улыбках – Баталова и Мустафы». Когда начальник сует руку в карман, кажется, что он сейчас наган вытащит, а он вытаскивает портсигар и начинает хохотать. Свой. По крайней мере, мне наиболее близка в советском кино эта идея... Если не реализуемая, то по крайней мере тоска. Которая дает возможность быть этому кино живым.
А откуда тоска?
Не знаю откуда. Мне этого хватает как данности.
Я понимаю, но как раз этого братания хватало в советских бутербродных, где можно было выпить, и на кухнях, где можно было поговорить. Это же наличествовало, зачем же еще тосковать по этому в кино?
Нет. Это нахождение в своей тарелке было очень важно, но речь не о маленькой группке, а об ощущении всеобщего единения.
Если бы вы это сказали Шаламову, он бы ответил: «Вам бы в лагерь, вы бы поняли, что никакого братства нет и быть не может». Какими бы хорошими людьми мы ни были, всюду полное одиночество. И единственное, что есть, – это надежда (тут я уже по Солженицыну), но она сидит только в тех людях, которые веруют. И те, кто был в состоянии выжить, часто оказывались, условно говоря, «религиозниками» – людьми, которые придерживались каких-то абстрактных принципов, а не братства и народности.
Позвольте. Все правильно. Но не может ли это всеобщее единение предотвратить возможность лагеря, вот этой крайней точки?
Вы думаете, что если было бы всеобщее единение, то лагерей бы не было?
Да.
Но ведь Советский Союз и был таким единением.
Реализованное братство и тоска по братству... Скорее, я думаю, что одно обостряло другое. Наличие лагеря обостряло тоску.
Вы же не говорите о братстве национальном? И не о братстве, скажем, советских народов?
Да нет же. Здесь и проще, и сложнее. Помните, в «Шинели» кусочек про молодого чиновника: «“Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” – и в этих проникающих словах звенели другие слова: “Я брат твой”». Вот я об этом. Меня эта идея греет. Мы говорили о разнообразии лиц, когда это разнообразие становится нормой и источником вдохновения – вот здесь, наверное, и скрывается возможность реализации.
Знаете, в чем, может быть, главная разница между русским сознанием и западным? Германовские картины уловили одну сущностную черту – западный человек все-таки от ветров истории предохранен броней частной жизни. В русской истории возможность пространства этой частной жизни человеку не была дана. Он постоянно обнажен, он постоянно этим ветром продуваем. Кстати, отсюда постоянный кашель в «Проверке на дорогах» – от этого ветра и холода. И у Германа перевернут принцип. Он может где-то на общем плане то и дело давать главных персонажей – ну, главных по фабуле, да? Но чем менее значим для истории персонаж, чем он более эпизодический, второстепенный, тем пристальнее в него вглядывается камера. Это то же самое, что безымянные могилы. Люди гибнут слой за слоем, и о них забывают. И хотя бы запомнить это лицо за секунду до того, как он исчезнет, – это то же самое, что назвать его по имени, напомнить о его существовании. Кажется, в разговоре с Аверинцевым Бахтин говорил о структуралистах: «Они во всем видят структуры, а я везде слышу голоса». Когда я наткнулся на это, я подскочил. Услышать голоса. Дело в том, что это были не имена и названия фильмов и их метраж – это были судьбы, это были взлеты и падения, мне интересны эти люди. Иногда даже больше, чем их фильмы.
Теперь обратите внимание, что последняя картина Германа называется «Трудно быть богом». Он-то на себя действительно функции бога берет: преодоление времени, воскрешение. Это настолько русское кино! И понятно, почему германовские картины все-таки в полный голос на Западе не прозвучали, не могли прозвучать. Есть вещи, которые там не понятны.
А что прозвучало?
Это очень интересно. Ну, понятно, что в конце 1950-х – начале 1960-х годов были все эти события в Каннах: «Баллада о солдате» Чухрая, «Дама с собачкой» Хейфица, «Летят журавли». А дальше «Рублев» и вообще Тарковский. Потом Сокуров. Потом вообще, прости господи, Звягинцев.
Русская духовность.
Исключительное соответствие представлению Запада о русской духовности, не более того. Но там совсем другие пристрастия. Вы обратите внимание, вот советские «Оскары»: «Война и мир», «Дерсу Узала», «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем». А там же еще шорт-лист, в котором были, между прочим, «А зори здесь тихие», «Белый Бим Черное Ухо», «Чайковский», «Военно-полевой роман» и «Частная жизнь» Юлия Райзмана. Это то, что не получило призов, но вошло в шорт-лист как лучшее зарубежное кино. Достойные фильмы, никто не спорит, но, с нашей точки зрения, есть вещи гораздо более ударные, попадающие в десятку. Нормальное дело.
С одной стороны, мы говорим о любви к маленькому человеку и о его беззащитности – что, собственно, тема всего мирового кино. Но тут же рядом стоит «Андрей Рублев», который не про хрупкость, а именно про невозможную духовную мощь, космическую, я бы сказал. И православную. И эта тяга к высокопарщине...
Слушайте, мне тут уже последние лет пятнадцать все тошнее и тошнее становится. Думаю: «Свалить бы куда-нибудь», при этом прекрасно понимая, что сваливать-то некуда, потому что я везде чужой, что здесь, что там. Вот я, безродный космополит, слушаю вас и понимаю, что никуда мне не деться, я же пропитан всей этой чертовой духовностью, я как проспиртован ею.
(Смеется.)
Наверное, мое самое любимое место в чеховской повести «В овраге» – это тот гениальный эпизод, когда Липа с мертвым ребенком идет и вдруг встречаются ей заночевавшие в степи. Они ее утешают, ей легче становится, и она спрашивает: «Вы святые?» А они говорят: «Нет, мы из Фирсанова». Понимаете? Это так же, как и в самой страшной его повести «Мужики»: читает одна из героинь Священное Писание, не понимая, что она читает на церковнославянском, доходит до слова «дондеже» и всхлипывает: красота, возвышенность этого слова, высокость его... Вот это я понимаю. Хотя естественно, что я это все не люблю, от слова «духовность» уже корежит, от «духовных скреп» уж тем более. Очевидно, это действительно специфика русской культурной традиции. А с Тарковским у меня, как и с Достоевским: его величие я понимаю. В свое время душа от «Соляриса» и, естественно, от «Зеркала» трепыхалась, но дальше я трижды смотрел «Сталкера», пытаясь увидеть эти глубины, про которые мне говорили, и махнул после третьего раза рукой. А дальше было еще сложнее. Меня в Тарковском пугает эта поза проповедника без малейшего намека на чувство юмора. Я вообще боюсь тотального серьеза.
Вы пишете, что великим советским режиссерам хорошо давался комедийный стиль.
Да. Там смеховая стихия в других формах выступала. Но были те, кто создавал гениальные комедии, – был Протазанов, был Барнет, и это к тому, что наши великие начинали с картин хулиганских и веселых, хотя ученических, а все преломлялось в довольно страшный и кровавый карнавал. Это все преломлялось в мотив заклания, в мотив жертвы.
Когда, где и как вы начинаете видеть это стремление к мотиву жертвы?
Ну, на этом весь Эйзенштейн построен от начала до конца. На мотиве жертвы, причем детской жертвы. Вот в «Стачке» ребенок, которого бросают казаки, или избиение младенца в «Александре Невском». И все это заканчивается блаженным Владимиром Старицким, который есть не что иное, как двойник Ивана. И наше сочувствие к Ивану, продиктованное вовсе не его высокими устремлениями ради русского царствия великого. Не случайно же Эйзенштейн в пролог вставил мальчика, на глазах которого бояре убивают мать, издеваются над ним. Это сострадание к детской травме, которая объясняет его поведение, вызывает сочувствие. И когда он подставляет под нож Владимира Старицкого, он убивает ребенка в себе. И тут уже он – полный дьявол, и третья серия не нужна, потому что «ради русского царствия великого» – один из самых страшных и разоблачающих кадров в советском кино.
Это у Эйзенштейна. Но вы сказали, что из начальной веселости они пришли к кровавому карнавалу...
Это у Козинцева постоянный мотив, когда хоровод кружится вокруг человека: у него функция карнавального шута, но он-то про это не знает. Он вне игры, и это страшное издевательство идет от первой картины до последней, «Короля Лира». Он постоянно возвращается к этому страшному хороводу масок.
И все-таки вы ушли от ответа касательно сюжетов. Мне понравилась ваша фраза в одном из разговоров: «В сущности, у советского кино мало сюжетов, но много лиц». Если их мало, вы можете их назвать?
Я процитирую свою жену Марианну Кирееву. Для нее один из главных сюжетов – это поиск города счастья. Один из самых ненавидимых ею сюжетов она обозначает как «осознал и влился». Герой, который становится частью коллектива и в нем растворяется. Еще есть разновидность «пойди и убейся». Герой, который отдает жизнь за этот самый коллектив. На самом деле, когда я говорю, что представляют собой подлинные сюжеты, то модель, как правило, предписана. А видоизменяет ее, иногда до противоположности, изобилие деталей. Действительный сюжет советского кино – в этих деталях. Именно детали придают смысл и этот сюжет создают.
Я заметил, что вы в своей книге как на некоторую поддержку нашего достоинства в советское время указываете не на людей кино, а на Веничку и Довлатова. Так вот, я посмотрел передачу пятилетней давности, где вы довольно восторженно говорите о фильме Данелии «Я шагаю по Москве». Если я правильно понял, в этом фильме проявляется некоторая свобода по отношению к тому, что можно назвать реальностью. Это 1964 год. А в 1968 году Веничка Ерофеев пишет «Москву – Петушки». Могу ли я вас попросить сравнить эти две свободы – свободу фильма «Я шагаю по Москве» и свободу Венички, который так и не дошел до Кремля?
Ну, свобода героев «Я шагаю по Москве» – это мироощущение Шпаликова 1962 года, это свобода, скажем так, ангельская, свобода до грехопадения, ты еще не знаешь, что существует несвобода, что за свободу нужно расплачиваться. А «Москва – Петушки» – это свобода любой ценой. Ты можешь делать с собой что угодно, губить себя как угодно, чтобы выстрадать эту свободу, но не зацепить другого. Это свобода, приобретаемая катастрофическим опытом. Когда ты должен в прежнем своем качестве, безгрешном, абсолютно невинном, умереть и родиться заново в совершенно новом. То есть подлинная свобода всегда есть прохождение через смерть себя прежнего. И через это в нашем кино, особенно во второй половине столетия, после войны, интересно прочитываются самые разные вещи, от «Летят журавли» до фильма Германа «Проверка на дорогах». Вот мы говорим о Шпаликове. Шпаликов как раз самый поразительный пример, где слилось несколько самых разных и в разных измерениях лежащих причин трагической судьбы. С одной стороны, все понятно: Шпаликов – это дитя оттепельного полета, он не может пережить такого несовпадения своего мироощущения с изменившейся реальностью. Но, с другой стороны, там еще драма человека, который, если угодно, не может смириться с необходимостью естественного возрастного изменения мироощущения. Он не может расстаться с юношеской влюбленностью в мир и принять необходимость взрослеть, необходимость взглянуть на мир трезво, стоически, если хотите. Вот для меня существует картина, после которой я понял, что оттепель закончилась и теперь каждый вынужден выбирать свою дорогу. Потому что это общее движение, на которое мы уповали, закончилось. Это «Король Лир» Козинцева. Вот грянулся он оземь и превратился опять в того же самого мальчика-шута, и опять идти этому мальчику под пинки, деваться некуда. И если он царь, если он король, то он по-пушкински царь: «Ты царь: живи один». Причем показательно, что фильм начали снимать 22 августа 1968 года.
Когда танки вошли в Чехословакию?
Именно в этот день! А закончен он был в конце 1970 года, того самого года, когда была разгромлена твардовская редакция «Нового мира». И вот для нас тогда это читалось именно в контексте произошедшего.
Но ведь странно питать надежды вместе со временем, вместе с народом, вместе с государством, потому что все это всегда рушится. Поэтому именно Веничка, который никогда не шел ни с кем вместе, оказался взрослым человеком среди всей этой буйной молодежи, разделявшей идеалы 1960-х.
Улдис, именно постоттепельная эпоха и оказалась эпохой этих одиноких странников. Из общей массы начинают выпадать те, кто чувствует, если угодно, истину и понимает, что неизбежно нужно идти вне партии, своим путем. 1970–1980-е годы – это действительно творчество одиноких.
А разве бывает творчество масс?
Да, конечно! Что такое русский футуризм? Что такое авангард 1920-х? Они ощущают себя поколением. Там неразличим индивидуальный масштаб личности. А когда начинается следующая эпоха, становится видно, сколько авторов блистательных авангардных картин 1920-х годов так сходят на нет, что прямо невообразимо.
По какой причине?
А потому что гуртом і батька бити веселіше. Скопом, вместе и отца бить веселее. Потому что они в 1920-е годы ощущают себя именно единым целым, и это общий язык с какой-то индивидуальной окраской и почерком, не более того. А текст общий, понимаете? И в 1960-е годы тоже.
Но ведь нравиться массе – это постыдная вещь. Для человека, себя уважающего, понятно, что он создает нечто, что должно быть...
Стоп, стоп. Все усилия прилагать для того, чтобы понравиться массе, – это, конечно, постыдно. Но стремиться во что бы то ни стало быть услышанным массой – это абсолютная необходимость.
Ну вот Тарковский...
Который говорит: «Если хоть один человек меня услышит, я буду считать, что...»
Но его, безусловно, нельзя назвать массовым. И он должен был знать, что его кино для очень определенной публики. А рядом Гайдай или даже Данелия, любимцы публики.
Ну хорошо, эти любимцы, те нелюбимцы – это тоже невероятно относительно. Расскажу вам мою любимую историю. Выходит «Андрей Рублев», как сейчас помню, у нас в Луганске в январе 1972 года. В одном из центральных кинотеатров идет три дня, и мы, конечно, пару раз успеваем за эти три дня его посмотреть. Ну и в итоге сходит с экрана, потому что нету аудитории. Проходит несколько лет, и вдруг в одном из клубов, домов культуры, руководитель самодеятельного театра заказывает в кинозал «Рублева» на один сеанс для труппы. Об этом в городе узнают, и сеанс задерживается, потому что очередь – 20 раз бубликом. Приходится устроить второй сеанс. Через пару лет директор другого большого театра, у которого плохо идут дела, который не выполняет план, берет «Андрея Рублева». Начальник кинофикации ему звонит: «Твою мать! Что ты делаешь? Уволю!» – «Ну, на три дня, Владимир Николаевич!» В итоге – три дня аншлага. Звонит этот директор: «Ну, Владимир Николаевич, три дня прошло, снимать?» – «Что?! Снимать?! Уволю!» И так до конца недели кинотеатр «Буревестник» делает сборы, еще продлевают на три дня, пока ажиотаж не спадает. Это 1977 год, все тот же город Луганск.
(Смеется.) Но вернемся к массам. Ленин говорил, что самое важное из искусств у нас цирк и кино.
Ну, что касается Владимира Ильича, он в гробу в белых тапочках видал кино как искусство. В России, где было 20% грамотных, не газета и не листовка, а именно кинематограф оказался наиболее действенным агитационным средством.
Совершенно верно. Я думаю, что советское кино за счет этого выиграло, поскольку приняли директивы и начали больше снимать, строить кинотеатры. Но это было кино, которое должно говорить не с буржуазией, а с массой. То есть оно и зарождалось по своей направленности как творческая деятельность, результат которой есть влияние на массы. И в каком-то смысле это сохранялось весь советский период.
Сохраняться-то сохранялось, но как только искусство начинали воспринимать как средство пропаганды и агитации и не более того, оно эту функцию тотчас же переставало выполнять.
Это конец 1920-х?
Да, и начало 1930-х, и начало 1950-х. Почему эти два периода кинематографисты вспоминали с такой тоской, ужасом и омерзением? Советское государство воспитало в советских кинематографистах болезненное свойство – пренебрежение к массовому успеху, к тому, что массовый успех есть нечто постыдное. Притом что в глубине души, естественно, все этого успеха жаждали.
Как оно это воспитывало?
Речь шла о том, что художественное произведение должно прежде всего быть эстетически значимым, и чем более оно новаторское, тем более оно глубоко и ценно. К зрительскому успеху относились с недоверием, тем более что государство оплачивало эксперименты, на которые бы девять продюсеров из десяти не пошли. Другое дело, что всегда находился героический десятый, который продюсировал картины, ломавшие стереотип восприятия.
Они же не эксперименты финансировали, а людей, которые...
Они что, не знали, что это за люди? Знали. Мне жена рассказывала замечательную историю. На первом курсе, в 1982 году во ВГИКе, их руководитель стал спрашивать: «Назовите ваших любимых режиссеров». Говорят: «Тарковский, Бергман». Она встает и говорит: «Рязанов». И публика: «У-у-у, неприлично». А чего неприлично? А потому что Рязанов в начале 1980-х один за другим выпускает кассовые боевики. Ну, так что? Есть художники, которые аудиторию чувствуют, что называется, брюхом. Рязанов среди них. Протазанов – единственный из режиссеров русского раннего кино, кто смог оказаться современником, но затем делать современные вещи для нескольких разных эпох и разных аудиторий. Вот для него, опять же, источником вдохновения и азарта было ощущение этой меняющейся аудитории – он чувствовал изменение запросов. Отсюда его протеизм, способность совершенно менять стилистику, причем всякий раз иронизируя над устоявшейся языковой системой. Но это случаи действительно исключительные. Потому что советский режиссер мог не особенно бояться рисковать. Ну, сделал картину, которая не идет, зато сообщество кинематографистов скажет: «Старик, ну ты титан!» Тем более что по мере существования советской системы режиссер от публики зависел все меньше. До 1938 года режиссеры и сценаристы получали отчисление от проката. Самым богатым был не Сергей Эйзенштейн, а Николай Экк после «Путевки в жизнь». А дальше это вылилось в скандал. Потому что только что закончивший ВГИК режиссер Исидор Анненский снял в конце 1937 года экранизацию чеховского «Медведя» и стал богачом. Тут все возмутились. Даже Экку этого простить не могли, а Экк был все-таки вроде свой – Эйзенштейн, Юткевич, Гарин, Лакшина с ним вместе учились в мастерской у Мейерхольда. А тут вообще какой-то бывший театральный режиссер ВГИК закончил – и сразу разбогател. И тогда заменили процентные отчисления потиражными, а тираж устанавливала специальная комиссия чиновников в соответствии с идейно-художественной значительностью вещи. Начальство сказало: «Вот эта картина правильная, ей, значит, тысячу копий. А эта картина идейно сомнительная, ей сто копий». И режиссер получает в десять раз меньше. Притом что стало полегче в 60–70-е годы, когда появились категории по оплате. Значит, вот картина пошла хорошо, ее переводят в более высокую категорию, но в принципе, как вы понимаете, так или иначе уже напрямую от зрительского спроса режиссер и сценарист не зависят. Вот откуда еще это пренебрежение к зрительскому успеху.
Но когда вы говорите о «Короле Лире» как об одном из решающих фильмов в вашем личном опыте кинозрителя, вы ведь ориентируетесь не на то, сколько зрителей его посмотрели, а исключительно на то, что именно на вас лично он произвел впечатление. А потом уже мы можем смотреть, что и для поколения он таким был. Киноопыт зрителя – это индивидуальная вещь. И когда вы шли на фильмы, с которых уходила публика, оставшиеся чувствовали себя сплоченными своею избранностью. Мол, эти идиоты не понимают, а мы понимаем.
Да! Конечно. Но это по молодости, это прошло, слава богу.
То есть для вас лично критерий массовости никакого значения при восприятии не играет?
Я скажу так: чем дальше, тем больше критерий массовости меня интересует, представляется мне загадкой, которую мне очень интересно разгадать.
Тогда вы должны заставлять себя смотреть какие-то ужасные голливудские боевики...
До голливудских боевиков дело не дойдет, дай мне бог все-таки набраться духу и пересмотреть хиты советской эпохи. Я вам сейчас объясню, почему именно советской, а не современной. О нынешних хитах, как я понимаю, через год забывают, их нет необходимости пересматривать. А советские картины без принуждения, абсолютно добровольно смотрели и пересматривали. Вопрос – почему? Вот это меня интересует.
Так нечего было смотреть. Скажем, «С легким паром»...
Улдис, в год выпускалось по 150 отечественных фильмов только в прокат и столько же зарубежных. Плюс еще 150 фильмов телевизионных, которые были абсолютно полноценны. Нам было из чего выбирать.
У вас есть догадки, в чем секрет хитов советского времени?
У меня пока есть только установка. Я понимаю, что массовый зритель вычитывал некие свои сокровенные смыслы. Мне очень интересно, в чем они состояли. Я до сих пор полагаю, что любимый герой массового советского зрителя – это человек, преступающий нормы, а вовсе не соответствующий им. Это вовсе не Павлик Морозов, не Александр Матросов, не Зоя Космодемьянская, не Павел Корчагин, а это скорее Остап Бендер, или шукшинский Егор Прокудин, или Мустафа, или Максим.
А разве так не во всем мировом кино?
Нет. В американском кино это не так. Не преступает норм герой Джона Уэйна. Он демонстрирует действительную их необходимость.
Так ведь любой, который преступает, их же и обнаруживает.
Эти нормы, что касается нас, уже заданы. Герой преступивший за это в конце концов расплачивается. Почему, скажем, персонаж подобного рода, любимец зрителя очень часто погибает, будь то Мустафа, Чапаев, Егор Прокудин? Я думаю, что зритель прекрасно понимает, что у него сил на такие поступки не хватит, что это опасно, но он хотя бы с удовольствием будет следить, идентифицируя себя с экранным героем. Тот погибнет, он его оплачет и спокойно пойдет домой целый и невредимый. Я не думаю, что американскому зрителю очень хотелось преступать норму, хотя ему, может быть, и хотелось совершать героические деяния. Но что касается советского зрителя, то он, очевидно, подсознательно стремился, как сказано в одном замечательном стихотворении, «вырваться за пределы осточертевших квадратных форм». Советский массовый зритель вычитывал какие-то очень важные для себя смыслы, которых я в те времена не вычитывал. Я там ничего глубокого не видел. Помню, как я смотрел впервые фильм «Москва слезам не верит». Ну, вы же понимаете, как я смотрел его в 30 лет – оттопырив губу. Но когда картина закончилась, я сказал: «О, вот это будет иметь кассовый успех». По крайней мере, я догадался. Я же прекрасно помню, как объясняли, – особенно женская половина киноаудитории – чем для них была значительна эта картина. Она их примиряла с реальностью, вселяла какую-то надежду. Так же, как один совсем не массовый человек по поводу «Иронии судьбы» развивал теорию «Блондинки за углом». Он говорил, что нужно жить так, как будто объект, к которому ты стремишься, за тобой наблюдает и вот-вот-вот вы с ним встретитесь.
С Барбарой Брыльской, тут же, на улице?
Ну да. (Смеется.)

Я вам все время хочу задать один вопрос. Вот вы идете в кино. В такой же темный кинотеатр, как американские зрители. Гаснет свет, начинается фильм. И с вами происходит – что? Что вас привлекает в кино? Не в литературе, не в картинах, не в театре, а именно в кино?
Я думаю, что преображение смысла, преображение мира, которое наступает за счет длящегося кадра. Это если я сижу и наблюдаю с точки зрения исследователя-историка. А на самом деле у меня все начинается как у любого нормального зрителя. Или я ерзаю и в конце концов зеваю, не выдерживаю и ухожу, или же я открываю рот, смотрю, и когда фильм заканчивается, вступает моя специальность. Я должен объяснить себе, чем меня этот фильм так потряс. Собственно, когда вы меня спрашиваете о том, что происходит в кинозале, я понимаю, что это давно забытое ощущение. Последние лет пятнадцать я в основном смотрю фильмы в компьютере. Но, по счастью, я сейчас имею возможность в Госфильмофонде смотреть кино на большом экране, и я понимаю, что это прямо противоположно тому, как я смотрю на экране телевизора или на компьютере. Потому что когда я смотрю в компьютере, я этот мини-экран втягиваю в себя, а в зале экран втягивает в себя меня, и я оказываюсь внутри него. Но дело в том, что если я вынужден прибегать к каким-то философским построениям, то это потому, что надо же как-то систематизировать материал. На самом деле я имею дело с конкретными фильмами и – что мне, может быть, интереснее всего – с людьми, которые их делают. Вот они меня интересуют. Почему меня занимает человек, который сделал такой-то фильм? И почему он его сделал именно так?
У вас есть какие-то открытия в этом плане? Например, человек сделал фильм вот так, хотя ничто этого не предвещало.
Я подозреваю, что в конце концов у меня сложится книга о Протазанове. Меня все больше интересует Пырьев. Причем если я кино Протазанова чем дальше, тем больше люблю, то пырьевские фильмы я смотрю очень отстраненно, хотя бы потому, что я понимаю, что Пырьев – это персонаж Достоевского, а Достоевский – не мой писатель. Но этот человек меня все больше интересует своей сложностью. Интересно, что Кончаловский мне сказал то же самое: что в молодости для них с Тарковским кино Пырьева было чистой воды фанерой, декорацией. А со временем я все более понимаю, что это очень интересный, очень неплохой кинематограф.
Но это ничего не говорит о нем как о человеке.
Говорит. Это человек по всем параметрам очень непростой и неоднозначный. Именно Пырьев, когда снимал «Кубанских казаков», в массовку взял весь коллектив только что расформированного после гибели Михоэлса Государственного еврейского театра. Он сказал: «Как же так, наши братья голодают, а ты бог его знает кого набираешь?» Именно он ситуацию организовал так, чтобы не дать полностью вышвырнуть из кинематографа тех, кого объявили космополитами. Мне рассказывал даже один человек, который присутствовал, когда у Пырьева собрались киношники после появления в «Правде» статьи насчет «космополитов в кинематографии», что кто-то из них сказал, что надо каяться. Он кулаком по столу грохнул и закричал: «Жиды, молчать! Я вам скажу, что вы будете говорить!» Вот Елена Кузьмина, жена Ромма, вспоминает, как они под покровом ночи к нему бегали, как он их всех спасал. Когда он снимал «Кубанских казаков», композитором взял Дунаевского. С Дунаевским всю дорогу работал Александров, но тут Дунаевского, естественно, тоже стали давить: национальность, да еще и джаз. И быстренько Александров от него отказался. А Пырьев пошел в министерство и сказал, что «Кубанских казаков» не будет, если музыку не будет писать Дунаевский. Действительно замечательно сложный персонаж.
Вы пишете об Эйзенштейне, что когда с ним говорил Ростоцкий, было чувство, что Эйзенштейн с ним на одном уровне, когда же он говорил с Козинцевым...
Что «мой собеседник – Шекспир. Когда дорастешь, тогда и поговорим». Да. Это Ростоцкий мне рассказывал, это произошло за несколько месяцев до его смерти. Он еще решительно опроверг идею насчет того, что Эйзенштейн был гомосексуалом, сказал мне: «Я все-таки к нему пришел хорошеньким, кудрявым 16-летним мальчиком, и все эти свои рисунки он мне показал уже только тогда, когда я вернулся с фронта без ноги». Он мне рассказывал и о том, что Эйзенштейн очень нежно относился к Донскому и не любил Довженко, называл его «крашеным». Я говорю: «Станислав Иосифович, а почему крашеный?» – «А вот, – говорит, – не знаю, поэтому и запомнилось, что крашеный». Он рассказывал совершенно замечательно об Андрее Москвине – о том, как он ходил полностью пораженный, завороженный, когда стажировался у Козинцева с Москвиным на фильме «Пирогов», и в какой-то момент они зашли в туалет, Москвин поворачивается к нему и спрашивает: «Молодой человек, какого хрена вы за мной все время ходите?» И тут Ростоцкий решил, что тот его принял за стукача. А он продолжает: «Я же знаю, что у вас ноги нет». И когда снимали какую-то сцену с конями в «Пирогове» и какой-то конь его, Ростоцкого, сшиб, Москвин бросил камеру и первым кинулся к Ростоцкому. Когда у Ростоцкого в 1957 году родился сын, он первым делом послал телеграмму Москвину: «Родился сын, назвали Андреем». И Андрей Никoлаевич все понял. Много чего он тогда рассказывал. Как Борис Васильевич Барнет учил его не признаваться, если жена застукает с чужой дамой.
Что значит – не признаваться?
А вот говорить, что этого не было. Прямо в глаза. Говорит, это действует.
(Смеется.) Послушал вас, и захотелось посмотреть советское кино. Хотя в последние лет тридцать я смотрел в основном только западные фильмы. Может быть, потому, что это вдруг стало доступным и одно за другим начало открываться новое. С советским так не получается.
Знаете, я всерьез перестал следить за западным кино где-то к началу 1980-х. В то время я жил в Луганске. Ну что там посмотришь? Но дело было не в этом. Я понял, что я потерял код. Вот что такое Фасбиндер или Вим Вендерс, я уже не могу понять. Я не понимаю, о чем это кино.
А у меня есть знакомые, которые, по-моему, не видели почти ни одного советского фильма. Что бы вы им предложили посмотреть, чтобы они полюбили советское кино?
Ой, совершенно не представляю себе. Наверное, проблема в самом языке. Да нет, даже не в языке. У нынешнего кино другой предмет, чем у кино минувшего столетия. Источники познания жизни для современного зрителя совершенно иные. Это вовсе не кино. Кино – это скорее развлечение. Хотя, конечно, существуют такие замечательные картины, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». И все-таки, как вы поняли, я свирепо субъективен.
Может быть, я бы посоветовал две картины, обе они 1960-х годов, обе, в общем-то, молодежные. Одна – «Мальчик и девочка» Юлия Файта по сценарию Веры Пановой. История про то, как мальчик после школы поехал на курорт, влюбился в местную девочку, соблазнил ее и уехал. И все собирался ей написать, но все время что-то отвлекало. А девочка родила ребенка и с ним осталась. Ничего больше, никто не виноват, зато цветное. Наш ответ «Шербургским зонтикам». Хотя к этому времени Юлий Андреевич Файт французскую картину не видел. И вторая картина Бориса Яшина «Осенняя свадьба». Девочка, опять же, водовоз из колхоза, у нее жених тракторист, они готовятся к свадьбе, уже выписали платье, а он возьми и нарвись на мину времен войны. Взорвался. А она уже беременна. И вот она ходит весь фильм по инстанциям, чтобы ее с мертвым расписали. Я не знаю, это и есть то волшебство, которое абсолютно непередаваемо словами. То, ради чего существует кино.
Интересно, что вы назвали очень трогательные картины. А как насчет того, что называют не вестернами, а «истернами»?
«Белое солнце пустыни», «Свой среди чужих, чужой среди своих»?
Да, конечно, да.
Господи, обожаемое мною кино – «Седьмая пуля». Есть картина «Встречи у старой мечети», которую сейчас забыли, хотя это очень талантливо. Если я начну перечислять, то зрители, которым это рекомендовано, просто от обилия названий сбегут куда глаза глядят.