Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).

Роберт Робертович Стуруа (род. 1938) окончил Тбилисский театральный институт и с 1962 года начал служить в театре имени Шота Руставели, который в ту пору возглавлял его учитель Михаил Туманишвили (бывший, в свою очередь, учеником Георгия Товстоногова). Первый успех Роберту Стуруа принес спектакль «Сайлемский процесс» (по знаменитой пьесе Артура Миллера «Суровое испытание»), поставленный им в середине 60-х. В 1975 году Стуруа выпускает брехтовский «Кавказский меловой круг», ставший одной из главных легенд советского театра второй половины XX века. «Грузинский Брехт» надолго определил стиль театра Стуруа: в очищенном от излишних бытовых подробностей (ну разве что совершенно необходим был жертвенный агнец на колесиках), распахнутом настежь мире действовали герои, которые затмевали собой любой пейзаж. Злые или добрые, смешные или устрашающие – все они были гигантами, настолько грандиозной выглядела переполняющая их человечность. Так велики казались они, что земля не могла бы их носить, если бы великаны не были по совместительству еще и комедиантами, а потому двигались они легко и ходили по сцене, чуточку пританцовывая. Дорога их была бесконечна, а рассказ о войне и страданиях сдобрен мягким юмором и целительной, несколько меланхоличной иронией. Космос то и дело норовил обернуться балаганом, но балаган всякий раз разрастался до космических масштабов. Великий спектакль, в работе над которым сложился знаменитый творческий тандем режиссера Роберта Стуруа, художника Георгия Алекси-Месхишвили и композитора Гии Канчели, прожил более тридцати лет.
«Титанический гуманизм» в союзе со всепоглощающей игровой стихией неизбежно привел Роберта Стуруа к Шекспиру. В 1979 году в театре имени Руставели сыграли премьеру «Ричарда III» – в роли короля-горбуна, жизнерадостного злодея с набеленным лицом и черными губами клоуна-убийцы, публику завораживал великий грузинский актер Рамаз Чхиквадзе, а режиссер доказал, что остранение и гротеск – необходимые приемы, когда речь идет об исторической трагедии (к тому же «эзоповым языком» он владел как родным).
За свою режиссерскую карьеру Роберт Стуруа поставил множество шекспировских пьес, включая «Гамлета» (в том числе в Лондоне с Аланом Рикманом и в московском «Сатириконе» с Константином Райкиным), «Короля Лира», «Макбета», «Бурю», «Венецианского купца», «Двенадцатую ночь» и другие.
В середине 90-х годов Роберт Стуруа представил миру свой театр обновленным – на сцену вышло молодое поколение вчерашних студентов, его учеников, ставших блистательными актерами. Утонченное профессиональное мастерство, артистический кураж и нелимитированная витальность – эти родовые черты театра Стуруа молодые актеры незабываемо воспроизводили в «Макбете», «Женщине-змее» по Карло Гоцци, в «Двенадцатой ночи», «Добром человеке из Сычуани», «Евангелии от Иакова».
В 2011 году Роберт Стуруа вступил в открытый конфликт с тогдашним президентом Грузии Михаилом Саакашвили, в результате которого он был уволен из театра имени Руставели. Разразился небывалый скандал; Роберт Стуруа оказался в Москве, где Александр Калягин предложил ему возглавить театр Et cetera, с которым у режиссера были давние творческие взаимоотношения. Но уже в 2012-м Роберт Стуруа вернулся в Грузию, где был восстановлен в должности. А в 2013 году в Тбилиси открылся собственный театр Роберта Стуруа под названием «Фабрика». Первой премьерой «Фабрики» стал спектакль «Мария Каллас. Урок» по пьесе Теренса Макнелли «Мастер-класс».
Лилия Шитенбург
При вас можно курить?
Даже нужно.
Вы сами курите?
Нет.
Но мы же члены...
И мы члены.
Европы…
(Смеются.)
Не только Европы, но и НАТО тоже.
Да, знаю. Даже северного этого... Пардон, я вас слушаю.
С вашего разрешения я прочитаю одну цитату. «Еще немного потерпи – и повесть / Я доведу до нынешнего дня; / Иначе мой рассказ без смысла будет». У меня создалось такое чувство, что вы довели свою повесть до сегодняшнего дня. Видите ли вы смысл в том, что вы делаете, в ключе этого сегодняшнего дня?
Это произошло случайно, потому что «Бурю» я поставил в 2010 году, когда этого состояния в нашей стране не было. Я думаю, что все-таки в глубине души я ждал момента, когда эта девятилетняя или, может быть, двадцатилетняя история уже как-то решится. И что делать, когда мы сталкиваемся с таким явлением, против которого выступают многие выдающиеся личности? Я имею в виду скорее театральные образы, чем реальные – Гамлета, Дон Кихота и многих других, которые должны как-то решить, что делать со злом, торжествовавшим долгие годы. В общем, здесь, в этой пьесе, как мне кажется, останется лишь Гамлет, у которого уже нет сил мстить за свою погубленную жизнь, и он вдруг всех их прощает. Тут Шекспир делает неожиданный ход, как будто... Даже герой не чувствует, что он простит, он совершает странный поступок, а он ведь всю жизнь готовился к мести.
Если бы я думал о своих постановках, зная, что моя жизнь завершается, я, может быть, ставил бы их как-то иначе. А сейчас – не сочтите за сентиментальность – приближение смерти для меня более реально, чем когда-либо раньше. Мне кажется, что Грузия оказалась на грани какой-то катастрофы. Я бы не назвал ее смертью, но пахнуло именно смертью. Мне кажется, что сейчас люди еще не осознали до конца, что произошло.
Я не знаю даже, закончился ли этот период в моей Грузии; у меня такое ощущение, что что-то еще должно произойти, чтобы она смогла двигаться вперед. И я думаю, что этот спектакль просто...
Мне часто говорят, что я как бы предсказываю, что случится. Я к этому не отношусь серьезно, но иногда, когда перед сном задумываюсь... Ну, вы можете представить амбиции человека, который поверил, что может что-то предсказать. Для режиссера это было бы просто губительно.
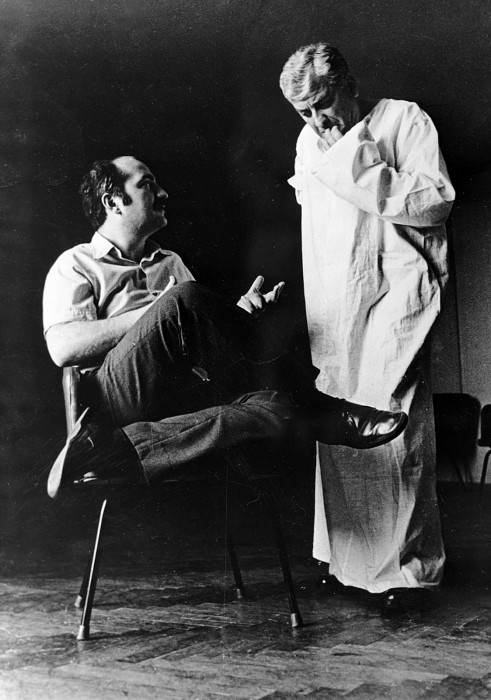
В конце вашей «Бури», когда Ариэль дарит пудреницу и когда пудра сыплется на лицо Просперо, я подумал, как странно получается: вот только что у него была власть, а сейчас он опять становится комедиантом среди других комедиантов, то есть участником той игры, с которой хотел расправиться, быть умнее всех...
Я думаю, что это просто какая-то обязательная часть моего отношения к жизни. Мне кажется, что вообще ситуация в Грузии начиная уже с 90-х... Я вдруг почувствовал, что от нас ничего не зависит, что мы как марионетки, которыми кто-то водит. И вот это ощущение беспомощности, ощущение, что ты ничего не можешь изменить, что история как будто движется сама по себе и, может быть, даже иногда заигрывает с нами, получая какое-то садистическое удовольствие от наших мучений и страданий... Мне кажется, что это и есть начало трагикомического состояния. Естественный фарс, который, на мой взгляд, является высшим проявлением театрального искусства.
То есть если сравнить театр с общественной жизнью, то в руках власти вы как бы становитесь актером, и режиссер-диктатор не собирается актерам ничего объяснять, а просто говорит: «Ты стой там, просто стой».
Да. Но я, скорее, похож на непослушного актера. Есть такие актеры. У нас был такой актер, Кахи Кавсадзе, который все время просил режиссера, чтобы ему объяснили, почему он переходит с этой позиции вот туда. И это длилось часами. Очень дотошный человек. А режиссер, очень хороший человек был, всe говорил: «Да ты переходи, переходи». Опустил руки.
А вы сам в театре демократ или диктатор?
Ну, меня иногда называют Адольф Виссарионович Берия.
(Смеются.)
Но я думаю, что это просто актерская шутка. Я не чувствую себя диктатором. Как говорил Товстоногов про театр: «Это добровольная диктатура».
И по этой причине вы так много говорите о свободе?
В общем, да. О свободе. Жанр «Юлия Цезаря» я назвал «Отрывки». Я не хочу ставить всю трагедию, потому что считаю, что это не очень хорошая пьеса в смысле драматургии. И я вырвал те отрывки, какие мне хотелось. После убийства должна быть какая-то очень маленькая сцена, а закончить можно было бы сценой из «Ромео и Джульетты». Любовной сценой. Так что я говорю о свободе, конечно. Тем более в нашей стране – заброшенной, маленькой, многострадальной, особенно сейчас.
Кем заброшенной?
Самим!
(Смеются.)
Вы знаете, меня поразило, что Калягин в программке вашего спектакля благодарит Иванишвили. Я подумал: неужели они уже собираются наступить на следующие грабли?
В каком смысле?
В том смысле, что каждый новый руководитель государства встречается с новыми надеждами, которые очень быстро рассеиваются, – и так без конца.
Ну, это самый важный вопрос постсоветского существования. Все равно мы с приходом новой личности надеемся. И эти грабли, наверное, долго еще будут существовать, потому что наше мышление, оно как бы очень... Я недавно прочитал один афоризм – по-моему, его приписывают Мамардашвили: «Наше несчастье в том, что мы думаем, что завтра будет лучше».
Это похоже на Мамардашвили – он часто повторял, что свободным может быть лишь человек, отбросивший надежду.
Да.
Но ведь и в вашей последней постановке «Девы» они все тоже все время ждут мессию, а приходит то один – не тот, то другой – не тот, потом еще один, и опять не тот. Все надеются...
Ждут.
Тогда почему же ничего не получается? Или это, может, закон такой?
Ну, я не могу вам сказать, почему не получается. Правда, я думаю, что не получается уже во всем мире. Что-то произошло с миром, он вошел в какой-то тупик.
И это вас утешает?
Нет. (Смеется.)
В смысле, что не только у нас плохо.
Есть какое-то утешение в этом. (Смеется.) Какое-то сравнение с соседями.
Скажите, а что вам или вообще художнику дает право критиковать власть? Или откуда берется необходимость это делать?
Этого я вам не смогу объяснить. Думаю, у меня это чисто человеческое. Я не могу уважать или любить подлых людей. Вот сейчас я ставлю «Юлия Цезаря», не хочу сейчас рассказывать о замысле постановки, но, в общем-то, мне кажется, что власть – это область человеческой жизни, где нравственности и морали не существует. Это какая-то отдельная надстройка над жизнью, которая может делать абсолютно все что хочет. Можно оправдывать политика, скажем, борьбой за присоединение каких-то земель, чтобы люди воевали и умирали за них. Но сами качества, заложенные в политика, я не принимаю. В меня уже предками заложена некоторая революционность, я никак не могу успокоиться, когда у власти стоят люди, желающие быть тиранами.
Вы знаете, я же из семьи ортодоксальных большевиков. По рекомендации моего дедушки в партию приняли Сталина. Мой отец стал художником, но тоже был сталинистом. У нас все время, с детства, были с ним большие скандалы. Даже мать в слезах становилась между нами, чтобы как-то это прекратить. Но в то же время он был человек богемы, очень любил женщин. Странным образом это никак не влияло на его политические и жизненные взгляды. Про его картины я говорил, что это просто безобразие. Но однажды он, придя домой пьяным, достал свои старые работы, еще из Академии, и я был потрясен. И все-таки к концу жизни он сумел выскочить из соцреализма; в последний период он много рисовал грузинские церкви и очень красивых женщин.
Так что я думаю, что во мне сидит какая-то крупица сопротивления, вызванная желанием быть свободным. Еще от моих бабушек. Одна из моих бабушек была женой грузинского революционера, которого расстреляли в 1937 году. Она была как бы немного безразлична ко всему, что происходило, несмотря на то, что пострадала в большом терроре. А дедушка очень красивый мужчина был, в отличие от меня, но я все-таки взял у него какое-то желание понимать жизнь, брать от жизни как можно больше. Какая-то свобода все-таки во мне существует.

В 1987 году вы писали, что верите, что наука докажет, что между актером и зрительным залом создается телепатический эффект. С тех пор вы утвердились в этой вере?
Раньше, когда говорили, что актер «играет спиной», я это воспринимал иронически. Про выдающихся артис-
тов – скажем, про Элеонору Дузе – говорили, что ты чувствуешь, что она играет, даже когда она стоит к тебе спиной. А я заметил: когда актер стоит на сцене и ничего не думает, просто что-то делает или притворяется, будто он что-то решает, это сразу же заметно зрителю, даже самому простому среднему зрителю. Что между актером и зрителями возникает какая-то телепатическая связь, уже не нужно доказывать. Это существует давно, и этим владеют выдающиеся артисты. Это что-то вроде самогипноза, если можно так сказать. Актер входит в зал и замирает. И зритель следит за ним, как бы отождествляя себя с ним.
Тарковский в дневниках очень пренебрежительно пишет об актерах: не выношу, какие они глупые, в жизни встретил только одного умного актера, и тот оказался режиссером. А вы говорите, что если актер не думает, то это сразу видно. О чем же он тогда думает? Или все равно, о чем он думает, лишь бы мысль была?
Расскажу притчеобразную историю. У нас была такая очень известная актриса Сесиль Такаишвили. Она играла в аджарском театре бабушку из повести Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион». И когда в финальной сцене она умирает, это чистая трагикомедия, потому что у всех текут слезы, а она шутит. И вот за кулисами собрались люди театра, чтобы посмотреть, как она это гениально играет. Но Такаишвили краешком глаза заметила, что за ней наблюдают из-за кулис. И вот эта шутящая умирающая старуха сумела развернуться к кулисам и показать им всем язык. Как бы разрушила всю мифологию системы.
Может, и не важно, думает актер или не думает. Актеры и вправду не должны быть умными. Это как с женщинами. Когда они ученые, они перестают нам нравиться; нам кажется, что они или лукавят, выдавая себя за умных, или же это очень скучные существа.
А качество, которое и им, и зрителям обязательно должно быть присуще, это простодушие.
Объясните.
Ну, когда ты приходишь в театр и смотришь на знакомых тебе актеров, а они начинают играть что-то возвышенное...
Уже смешно.
Поэтому ты должен простодушно верить тому, что тебе предлагают. Что-то такое детское.

У Мамардашвили был такой пример: где-то в Греции ставили пьесу Эсхила «Персы», в которой варвары разносят город. И вот сидят греки, смотрят этих «Персов», а тем временем наверху амфитеатра, за их спинами, на самом деле появляются варвары. Когда я смотрел вашу «Бурю», у меня было чувство, что на сцене – некая революция, а что происходит за спиной, совершенно неизвестно. В какой мере театр может задействовать жизнь вне театра? Что вы хотите, чтобы зритель, так сказать, вынес из театра?
Я сейчас не такой идеалист, чтобы надеяться, что человек, который по натуре и по сути своей похож на Ричарда III, изменится после того, как сходит на спектакль «Ричард III», посмотрит на это существо и осудит его в момент смотрения спектакля. Он придет домой, еще часик подумает, а утром проснется снова Ричардом III, а может, еще и хуже.
И мне не хочется превращаться – скажем так, примитивно – в журналиста. Я думаю, что надо делать то, что от тебя требует… Не хочу говорить «совесть» или какие-то благородные мотивы, а то, чего требует профессия: ты просто должен служить своей профессии. Может быть, все такие слова несколько возвышенные. Но ведь эта профессия отняла у тебя все – саму жизнь, миллион прекрасных вещей, как вы сказали. У меня, правда, одна страсть все же осталась. Это застолье. Грузинское застолье, с длинными речами, для других, чужеземцев, удивительно скучные беседы. Эту страсть я сохранил. И продолжаю, несмотря на возраст, пить. Позволяю себе.
Но вот же у вас на руке аппарат измеряет давление, а врач, наверное, говорит, что пить нельзя. Так почему же вы все-таки продолжаете это делать?
Наверное, сейчас я не могу до конца вам объяснить... Не потому, что я скрываю. Я сам удивлен своей страстью к выпивке. Актеров я прошу, чтобы они перед сном припомнили свой день, стараясь не скрывать от самих себя то, что каждый из них на самом деле совершил. Не врать. Но все равно такое самопознание не может быть стопроцентным. Так что у меня нет ответа, отчего я пью.
Врач мне не говорит: «Не пей». Он мне советует каждое утро бегать. Раз в неделю они вливают в меня какой-то состав. Но, на удивление, состояние не такое уж и плохое. Сейчас начинаются праздники, и врач меня попросил три раза в день мерить давление, чтобы он тоже знал.
Кстати говоря, Резо Габриадзе считает, что длинные тосты, которые приписывают грузинам, – советские выдумки, что на самом деле грузины очень простые тосты говорят.
Простые, да. Но длинные. Резо, может быть, хотел перед вами оправдаться, когда говорил про советское влияние. Мне же кажется, что это национальная черта, имеющая давние кор-
ни. Кроме того (если можно так, немножко отвлеченно, рассуждать о за-
столье), чтобы сохранить язык, сохранить песни, страсть к искусству, обитая посреди этого мусульманского океана, требуется нечто вроде клуба. Ведь когда мы собираемся, 5–6 человек, мы час выбираем тамаду. Это же ритуал, я даже иногда думаю: «Ну что за бред!» Пять человек сидят и выбирают руководителя стола. Потом начинаются обязательные тосты – за родителей, за умерших, за близких. Но вот после этих обязательных тостов начинается импровизация. За грузинским столом обязательно надо сказать оригинальный тост. Это действительно с ума сойти. К сожалению, когда есть гости, начинается лицедейство: показать себя немножко таким туристическим грузином. А когда чужих нет и ты один с актерами или с друзьями, там все по-другому.
Я недавно беседовал с художником из Новосибирска, из группы «Синие носы». Он рассказывал, что когда их приглашают куда-то за границу, то, как правило, ждут, что они будут буянить. Так им и говорят: «Вы же русские, из Сибири, значит…» И он говорит: вот мы им и устроили.
Кстати, знаете, я часто работаю в Москве и там вообще не пью.
Да ладно!
Абсолютно. Они с удивлением на меня смотрят, потому что знают, что, в принципе, я каждый день после репетиции сижу в ресторане и бухаю. Но там я не пью. Во-первых, я не могу с ними пить.
Почему?
Потому что... Как называют людей, с которыми пьешь вместе?
Со... Со...
Собутыльники, вот. Мне нужна определенная категория собутыльников, без них я не получаю никакого удовольствия. Там если сабантуй, то там и тосты не нужны никому, и сам ты не хочешь никаких тостов говорить. Для меня же застолье – это нечто большее, чем просто выпить. А может быть, первая причина в том, что я не пью водку. Это очень важная причина.
А чачу?
Нет, за свою жизнь я попробовал все, но где-то лет 30 назад я прекратил пить водку. Правда, это не значит, что я вообще к ней не прикасаюсь. Но мне не нравится опьянение от водки, оно мне кажется слишком тяжелым. Я не очень радуюсь. Потом, у меня отец был художником, таким настоящим, богемным, тбилисским, и, видимо, это все оттуда. Во-вторых, я не могу ставить в России ничего, что напрямую касается их проблем. Не хочу у них ругать Путина.
Почему?
Не могу я там ругаться. Говорить об их политике. Есть грузины, которые, наоборот, их стыдят: почему вы молчите, этот тиран сидит на вашей шее... Здесь же эти разговоры о политике просто часть застолья.
По-моему, у Леонидзе был рассказ про деревенского тамаду, который после пира пошел пьяный домой, шел по оврагу, была снежная буря, и вдруг он вспомнил, что забыл сказать последний тост за Бога. И чтобы все-таки произнести этот тост, он возвращается в тот дом, где уже все легли. Действительно есть такой тост?
Есть, но он немножко... Как раз сейчас Страстная неделя, и такой тост наверняка будет. Но он нечасто произносится. В этом все же есть какая-то несуразность, что ты пьешь за Бога. Что-то сдерживает – по крайней мере, меня. Я вообще не очень верующий человек.
Недавно я был у католикоса, хотел пригласить его на спектакль. И он меня спросил, очищался ли я когда-нибудь? Очищался? Как это называется по-русски?
Причащался?
Причащался. Я говорю: «Нет». – «А исповедовался?» Я говорю: «Ну, исповедоваться я не смогу, а причаститься согласен». Он сказал: «Приходи!» Назначил мне встречу за несколько дней до Вербного воскресенья. Я туда пришел, сел в кулисах. Мне был виден алтарь, и там такие кулисы, где освещения нет, один...
Где принимается исповедь?
Нет, нет, где они одеваются. Типичный гардероб, актерский. И я там сел, ко мне подходит священник и говорит: «Роберт, вы сейчас должны исповедоваться». – «Но я же договорился с католикосом, что не буду исповедоваться!» Он говорит: «Нет, без исповеди причастить невозможно». Ну, я весь покрылся, значит, испариной и начал думать, что теперь должен вот так все свои грехи и выложить. А он говорит: «Нет, вот я вам дам вопросы». И он мне дает такую книжку, где перечислены приблизительно 120 грехов. Я начал читать эти грехи и постепенно успокоился; у меня даже начали возникать подозрения, что я, пожалуй, даже святой. Но тут я дошел до сладострастия и вспомнил, что иногда смотрю порнофильмы.
(Смеются.)
Тогда я подошел к этому священнику и признался, что сладострастен, ибо порой смотрю порнофильмы, а он улыбнулся и говорит: «Я тоже».
(Смеются.)
Вы говорили, что грузином надо быть не по крови, а по смыслу. Что это значит? Я тоже, может быть, люблю грузинские застолья, но ведь я все же не грузин в этом смысле.
Ну, застолья – это обязательная часть нашей жизни... Знаете, мой педагог, Михаил Туманишвили, ставил однажды спектакль, и поднялась очень большая волна: что такое национальное искусство, что такое национальный театр? Приехал Товстоногов. И я говорю ему: «Георг Саныч, что значит быть грузинским режиссером?» А он по матери грузин, поэтому я спрашиваю. Он мне говорит: «Не надо ничего делать – все равно, что бы ты ни делал, все будет грузинское. Не надо никаких костюмов, ансамбля народных песен, танца. Делай, как сам считаешь нужным. Это все в тебе сидит».
Я думаю, у каждой нации существует своя тайна. Например, англичане. Я очень хорошие анекдоты придумываю про англичан. Один расскажу, мне очень нравится. Значит, Брайтон. И лорд какой-то плавает в специальном купальнике. Замечательная погода. Вдруг он слышит рядом какой-то плеск. Оборачивается и видит англичанина в смокинге, цилиндре, со всеми необходимыми атрибутами. Естественно, чувствует возмущение и отплывает прочь. Тот за ним. Он еще отплыл, тот опять за ним. Тогда он поворачивается к нему и говорит: «Сэр, непристойно купаться в дресс-коде». А тот отвечает: «Сэр, это вы купаетесь, а я тону».
(Смеются.)
Мераб Мамардашвили говорил про «незаконную радость» грузин, способность радоваться без причины или, скорее, вопреки обстоятельствам. Все рушится, все гибнет, а грузины находят повод для застолья. Такая вот радостная возможность возвыситься над условиями.
В 90-е годы в Тбилиси не было света, не было отопления. И был такой случай, когда Кахи Кавсадзе, актер наш...
Да, который дотошный до объяснений.
Да, да, да. Ночь, нет света, горят какие-то керосинки, а он начинает одеваться – пальто надел, шапку, тепло оделся. Мы так удивленно на него смотрим: «Куда ты идешь?» – «Я иду спать». То есть он оделся как можно теплее, потому что действительно было очень холодно. Но даже в те времена я все-таки куда-то ездил за рубеж, и у меня всегда были какие-то деньги, я их даже откладывал... А актеры никаких денег не имели. У меня была официальная зарплата доллар и тридцать центов, если перевести на доллары.
В месяц?
В месяц. Месячная зарплата.
Доллар и тридцать центов?
Да, можете спросить у нашего…
Бухгалтера.
Часто выходило так, что рядом стреляли. После ресторана – ну, в принципе, тогда никаких больших ресторанов уже не существовало, так, маленькие какие-то духанчики – мне поздно ночью приходилось идти домой. В темноте полной.
После репетиций?
Нет. После выпивки. Где-то три часа. Ну, естественно, боишься, надо несколько километров в темноте пройти. Когда я подходил к своему дому, у меня была такая альтернатива: или идти длинным путем, или коротким, но через парк. И так как мне было лень идти долго, я шел через парк, но когда я входил в парк, я боялся, что на меня могут напасть. И я делал как на кладбище: ночью идешь и поешь, чтобы не бояться. «А-ля-ля», – вот так. И я шел, значит, по этому парку и пел: «Я режиссер, иду, у меня денег нету-у»...
«У меня месячная зарплата доллар тридцать центов»...
«Если вы меня возьмете в заложники, вам никто ничего не даст».
(Смеются.)
Недавно я беседовал с замечательным режиссером Юрием Николаевичем Погребничко. И он сказал такую загадочную фразу: «Если в театре идут репетиции, то в городе все спокойно».
(Смеется.) Когда шла война в Абхазии и некоторые актеры решили уехать в Абхазию, я им сказал: «Если вы уедете, в театр не возвращайтесь, потому что я не хочу работать с убийцами». Это их, знаете, несколько отрезвило – тех, кто боялся туда ехать. То есть на самом деле они боялись и теперь могли переложить вину на меня. Но один режиссер молодой решил все же в Абхазию поехать, потому что его друзья туда уезжали. Приходит его отец, а тот собирает рюкзак, значит, бандану, очки черные, такой… Как звали этого американского вояку из Вьетнама, известный актер такой?.. Рэмбо.
Рэмбо.
Мать плачет. Отец не понимает, в чем дело, спрашивает, что происходит. Мать говорит: «Он уезжает в Абхазию, вещи собирает». На что отец: «Не забудьте ему памперсы положить».
(Смеются.)
И – он сам мне рассказал – он бросил этот рюкзак и остался дома.
Как-то по поводу «Ромео и Джульетты» вы сказали, что у каждого персонажа есть свой гений. Например, для матери Джульетты это гений одиночества. Если бы вам нужно было себя описать простым и однозначным словом, что бы это был бы за гений?
Я могу сказать, хотя и очень приблизительно. Допустим, хулиган.
Ваш гений – хулиганство?
(Смеются.)
Тогда я прочитаю еще одну цитату. «А после возвращусь домой в Милан, чтоб на досуге размышлять о смерти». Вот вы вернулись в свой Милан. И что, чем вы будете заниматься?
Хорошо сказано. Я, конечно, не вернулся бы. Я ведь совершил большую ошибку. Потому что я уже почти ушел из театра, причем ушел хорошо. Так я и думал уйти. Когда меня выгнали, мне казалось, что все замечательно, в традициях нашего театра. Отсюда всех художественных руководителей выгоняли, а одного расстреляли.
Это кого?
Александра Ахметели. Это один из великих грузинских режиссеров. И его расстреляли. Он был поколения Мейерхольда, Таирова...
Так что мне понравилось, что меня выгнали не трупом. Как с этим несчастным московским режиссером, не хочу называть его имя, который очень долго жил. И как всегда: дедушка, семья, склеротик, Альцгеймер даже у него начался. Словом, пусть будет, жалко.
Но я как-то еще не совсем потерял способность ставить. Меня выгнали не артисты, и в общем хороший получился бы финал. Точка. Но вдруг я согласился вернуться. Правда, я вот недавно сказал актерам: «Хорошо бы, чтобы меня не прибили к театру». Но у меня еще есть один выход. Я могу еще уйти сам. У меня есть маленький домик около Поти. Буду читать книги, слушать музыку. Рисовать. После того как стал режиссером, я прекратил играть на фортепиано и слушать музыку. Вот буду играть и слушать. Писать что-то буду.
Вы упомянули рисование, рассказывали о своем отце и о том, как он начал рисовать в конце жизни. Тут я вспомнил Эйзенштейна, у которого последний цикл рисунков назывался «Дар жизни». И это такие простые, печальные, японские рисунки. Белка, женщина курит, яблоки... Скажите, с годами в вас растет тяга к простоте?
Да вряд ли. Видимо, потому, что в юности я здесь поставил пьесу, которая была, как вы выражаетесь, проста, без особенных каких-то внешних эффектов. Все было сосредоточено на актерах. И я считаю, что это был лучший грузинский спектакль, поставленный таким образом.
Что это была за пьеса?
Это была пьеса Розова «Перед ужи-
ном», которую мы перегрузинили. Создали такую… Как назвать?.. Адаптацию. И там я почувствовал, что могу так делать, но не хочу. Внутренне не хочу. Мне стыдно.
Стыдно?
Да. Для меня театр – это скорее праздник. Может быть, это еще поменяется, но не думаю.
Спасибо. Извините, что после спектакля вас замучил.
Ничего.