Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!
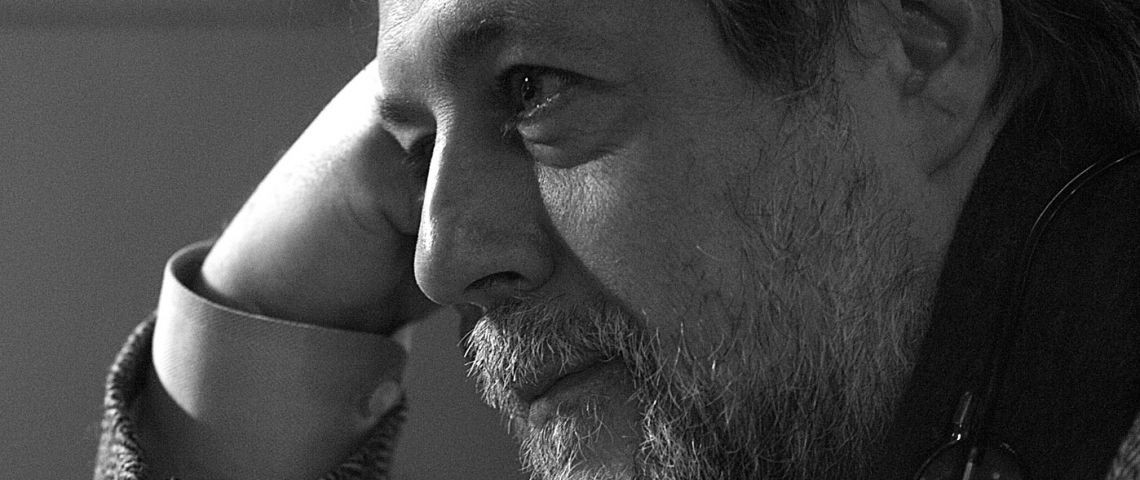
Виталий Манский родился и окончил школу в СССР, во Львове, в 1990 году выпустился из ВГИКа с дипломом оператора. Это тоже еще был СССР, хотя СССР был уже не тот.
Режиссерский дебют Манского «Еврейское счастье» по сценарию Геннадия Островского был снят на «Студии первого и экспериментального фильма». На этой студии при попустительстве Алексея Германа дебютанты, как говорили злые языки, учились работать за государственный счет. Студия, сохранявшая гармоничные отношения с профессионалами советской киноиндустрии (оператором дебютанта Манского был Сергей Юриздицкий, к тому моменту известный работами с Сокуровым, а в главной роли снимался Евгений Стеблов), позволяла режиссерам советскую материальную безответственность в сочетании с относительно либеральным подходом к творчеству.
Название «Еврейское счастье», то есть bad luck, отсылает к фильму 1925 года с Михоэлсом, а в самом фильме вместо предыстории героя зритель видит фрагменты выдуманного счастья выдуманных евреев в выдуманной стране образца 1936 года. Главный герой фильма собирается (через алию) стать частью большого мира, приезжает в город детства, и, как это часто бывает в дебютных фильмах, случайная смерть так и не дает герою оторваться от корней, которые сами – вчерашняя выдумка. Тут можно пошутить, что результатом постановочного эксперимента стало обращение автора к документалистике и что впредь он стал куда осторожнее в выборе названий. «Благодать» – так будет называться следующая его картина.
Второй фильм Манского вышел в 1995 году, это была документальная копродукция с Финляндией. Хотя зрители болезненно реагировали на беспорядок в доме алкопары и на причудливую внешность старушки Маши (ее в трехлетнем возрасте заколдовали и она перестала расти), фильм имел счастливую фестивальную судьбу, и его часто называют в числе любимых. Это история о деревне Благодать, благословенной настолько, что даже немцы туда не дошли и – на момент съемок – не дошла еще зловещая постсоветская дележка. У единственной молодой красавицы в малолюдной деревне чудесным образом случается беременность. Именно так видят ситуацию соседи – и радуются. Пока дом не рухнул, пока плодятся кони-хрюшки-птица, течет река, лежит туман и Прасковья ухаживает за Машей, тут можно жить, даже попивая, даже не вырастая. Если смотреть сначала поздние работы автора, а потом – эту, то к творчеству Манского можно получить неожиданный ключ.
С 1995 по 1997 год Виталий Манский делает авторские телепрограммы, все больше про кино, а в 1996 году становится генеральным продюсером компании REN-TV-НВС, которая начинает собственное вещание по всей России – получает частоту. Работа на телевидении не была в девяностые годы анафемой, а телеканал REN-TV в эпоху Лесневских был желанным местом работы у студентов-кинематографистов без связей в большом кино.
Один цикл передач Манского назывался «Семейные кинохроники». Примерно в то же время режиссер создает архив, куда собирает материалы любительских съемок от «после войны» до начала 90-х, а в 1999-м появляется монтажный фильм «Частные хроники. Монолог» – история придуманного советского человека от рождения до растворения в водах небытия. Фильм ругали за то, что рассказ от первого лица «насилует» месседж видеоряда, и за то, что звук тоже что-то там «насилует». А хвалили потому, что своей остроумной выходкой автор поднял вопросы о природе документалистики, времени и несвободе в их нераздельности. Потом автор снимет еще много фильмов, каждый со своим месседжем и сюжетом, но можно без преувеличения сказать, что последующие картины продолжат вещание на этой частоте.
Телевизионно-продюсерская карьера, переплетаясь с авторской, выливается у Манского в форму удачных копродукций. Студия «Вертов. Реальное кино», где сам Манский является продюсером, а его жена – генеральным директором, работает и с российскими каналами, и с европейскими дистрибуторами и продюсерами (что необычно для России), и с Министерством культуры РФ. Студия выпустила более двухсот фильмов. Среди них – огромный, как «объять необъятное», проект «Россия – начало» (обновляемый каждые 2–3 года набор из двадцати шести 26-минутных фильмов разных режиссеров), фильмы о Горбачеве, Ельцине и Путине. Слухи и домыслы по поводу последних касались не столько их содержания, сколько причин, по которым именно Манский получил доступ к «телам» героев. Возможно ли, чтобы обычный человек?.. Да еще и ко всем трем сразу?.. Ответить на этот вопрос нельзя: даже самой правдивой правде здесь никто никогда не поверит.
«Артдокфест», президентом которого стал Манский, а программным директором – кинокритик Виктория Белопольская, занял уникальную нишу. Фестиваль, как гласит его манифест, является «инструментом публикации документального арт-кино», причем к участию в его конкурсной программе допускаются фильмы со всего мира, снятые на русском языке. Таким образом, «Артдокфест» заранее предполагал ситуацию встречи российского зрителя с нероссийским взглядом на российскую реальность. Фестиваль со всеми его нормальными фестивальными атрибутами вроде постоянного места проведения, собственным стилем, расширяющимся набором деловых программ, призами авторам из разных стран не вписывался в охранительные российские тренды, но за счет чего-то держался долго и получал госфинансирование. В 2014 году он изменил статус с российского на международный. Ходили слухи, что не членство в российской телеакадемии «ТЭФИ» и не членство в киноакадемии «Ника», а те самые фильмы про первых лиц служат для Манского и его фестиваля охранной грамотой.
Но в любой истории когда-нибудь наступает «вдруг». Во время Майдана уроженец Львова Виталий Манский задумал снять фильм «Родные» – о семье, члены которой живут и в России, и на Украине, то есть буквально о своих родных. В конце июня 2014 года проект этого фильма претендовал на господдержку и был вынесен на конкурс экспертного совета по неигровому кино Департамента кинематографии Министерства культуры РФ. Конкурс состоялся. Проект занял второе место. Это, вероятно, должно было означать, что он будет профинансирован. 28 июня режиссер сообщил в «Фейсбукe», что его проект исчез из протокола конкурса. Позже ему сообщили об отказе в финансировании «до стабилизации ситуации на Украине». Кинотеатр «Художественный», дом «Артдокфеста», закрыли на реконструкцию. 19 ноября 2014 года глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский сообщил об отказе оказывать государственную поддержку каким бы то ни было проектам Виталия Манского, в том числе и «Артдокфесту».
Стоит отметить, что из всего драматургического искусства, производящегося сейчас в России, по-настоящему конкурентоспособны лишь две франшизы – «Театр.doc» и программы «Артдокфеста». Тем не менее Виталий Манский с любой европейской сцены говорит по-русски. Это лишний раз подтверждает, что случившийся «вдруг» конфликт Манского с министром культуры РФ Владимиром Мединским не был результатом провокации записного «западника» против «патриота», но был реакцией осторожного (Россия уже аннексировала Крым) чиновника на скрупулезную работу режиссера, поднимающего вопросы о природе документалистики, времени и несвободе в их нераздельности.
Здесь можно и закончить – на мифотворческой и, не в обиду герою, оптимистической ноте: художник, предприниматель и его любимое детище освободились от сотрудничества с путинским режимом. Что, конечно, не снимает вопроса о том, как все так вышло с Россией. Лежит ли вина на главном герое картины «Горбачев. После империи»? Или на персонаже фильма «Ельцин. Другая жизнь»? Или – тут-то уж наверняка – на протагонисте картины «Путин. Високосный год»? Или все же на многочисленных героях фильма «Наша родина», которых объединяет не столько групповой школьный снимок, сколько то, что все они кого-то винят, винят, винят… А ведь все хорошо. Все на самом деле хорошо: Благодать.
Таня Деткина
Начнем так. Лет восемь назад я был на концерте Кустурицы. Ушел где-то через десять минут, когда он начал петь гимн Советского Союза: я решил, что Кустурица спятил. Поэтому я и обратил внимание на ваше высказывание о том, что вы намерены набить ему морду.
Когда шла так называемая предвыборная кампания Путина, Кустурица был в ней задействован в качестве если не буквально доверенного лица, то в качестве как бы группы поддержки, и, по-моему, он выбрал самое унизительное доказательство необходимости существования Путина в России. Он сказал: «Да, возможно, Путин и плох для Финляндии или Франции, но вот для России самое оно». Я думаю, что даже русский человек не имеет права на подобного рода заявления, а уж в устах иностранца или, так скажем, не россиянина...
И почему же так нельзя говорить?
Давайте я уточню. Он не сделал заявление, что Путин – это самое то. Он сказал, что Путин, возможно, и плох для финнов и французов. А это значит, что он говорит: «Вы люди третьего сорта. Для Финляндии и Франции это неприемлемый человек, потому что он вступает в противоречие с базовыми принципами существования общества, а для вас как раз хорош, потому что вы, по сути дела, живете за рамками цивилизации». Когда ты действительно воспринимаешь эту страну... И это видно, в общем, по действиям самого Кустурицы. Он же не где-то в воздушном пространстве произносит эту фразу: понятно, что он считает Россию каким-то полем дураков, где можно бесконечно собирать деньги на своих концертах, весьма уже далеких от музыкального творчества, участвовать в каких-то рекламных кампаниях, бесконечно присутствовать на всяческих государственных мероприятиях, которые являются не чем иным, как освоением бюджетов, то есть, по сути дела, легальной формой воровства. И это оскорбительно. Бьют морду за оскорбление. Его позиция по отношению к нам, россиянам, оскорбительна.
Когда мы делаем кино, может быть, более жесткое, с более жесткими диагнозами общества, мы это кино делаем, находясь внутри этой жизни, будучи участниками этого процесса и, безусловно, пропуская все через себя. Мы как бы сами являемся заложниками ситуации и как-то пытаемся ее решать. Мы ее как-то пытаемся выправлять. Мы как-то пытаемся сопротивляться этому, а вот взгляд через губу, да еще с таким вектором...
А вы сами-то как относитесь к русским, к русскому народу?
(Долго молчит.) В каком-то смысле я считаю себя абсолютно частью этого народа – притом что я абсолютно не русский человек, во мне много кровей, и, насколько я знаю свою родословную, там нет ни капли русской крови.
Нет, простите, я и не предполагал ответа в смысле принадлежности по крови.
На заре своей карьеры я работал с оператором, с которым мы вступали в непримиримые споры и конфликты, и он произносил фразу, которая очень многое решала: «Виталий, давайте определимся с терминами». Вот когда мы говорим о России, о русских, я бы хотел определиться с терминами. Вчера во время обсуждения фильма «Труба» здесь, в Риге, мы вдруг выяснили с одной из зрительниц, что под термином «русские» она понимает и украинцев тоже. А для меня абсолютно самоочевидно, что между русским народом и украинским существует серьезное различие. Поэтому когда мы говорим о русских, я бы хотел понимать, что мы имеем в виду.
Я, пожалуй, предпочел бы говорить о тех русских, которые все время создают такое государство, какое они создают. У них такие руководители, какие есть, и если спрашивать о причинах, то можно говорить о заговоре западных стран, проводящих такой вот социальный «эксперимент», а можно указывать на некоторое стремление самих русских жить так, как они живут.
Да, но я должен откликнуться на эти предположения все же более ответственно. Приведу пример, скажем, своего подъезда в Москве, дома, в котором я живу.
А где вы живете?
Я живу в центре, на Пушкинской площади, в старом доме, 1913 года постройки. И вот наш подъезд с советских времен не ремонтировался. В подъезде пять квартир, и, как это ни странно, только два человека решили за свой счет сделать ремонт с первого по пятый этаж. Более-менее приличный ремонт в России почему-то называется евроремонт. И вот с помощью таджиков мы сделали евроремонт по всему подъезду. Вывели цивилизацию за рамки своей квартиры. Повесили люстры, зеркала. Но оказалось, что люди, не участвовавшие в этом евроремонте, по-видимому, почувствовали себя некомфортно в этом европространстве. Очевидно, их этот «подарок судьбы» стал раздражать: был грязный подъезд, а стал чистый. И вот поверх этой европейской чистоты и простоты они черным грифелем написали известное слово, которое их наконец-то вернуло в привычное для них пространство.
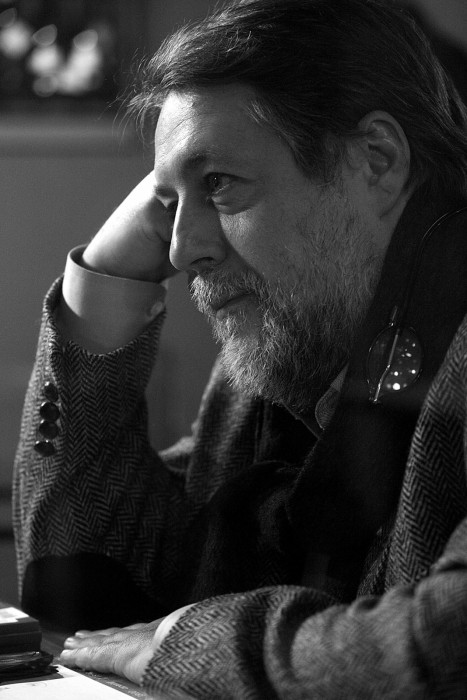
Из трех букв?
По-моему, из пяти.
А! (Смеется.)
Я полагаю, что мне корректнее говорить «мы, русские», чтобы не говорить «они, русские». Мы, русские, наверное, чувствуем себя комфортнее в том, в чем мы живем не одно поколение. Вопрос о природе этого комфорта. Я знал, скажем, что в России очень много санузлов устроено по принципу выгребной ямы. А тут недавно увидел статистику. Оказывается, в современной России 32% населения до сих пор пользуется этими ямами. Знаете, мы сейчас сидим в прекрасном кафе, у нас еда на столе, но тем не менее я позволю себе, так сказать, напомнить каждому читателю, что он ощущал в тот момент, когда лично пользовался выгребной ямой по нужде. Вот это ощущение какого-то самоунижения... А если это с рождения и до конца дней?
И еще, перескакивая в пространство другой логики, у нас совершенно запредельное терпение. У нас, у русских. Этим мы совершенно очевидно отличаемся от украинцев, которые не стали терпеть и вышли на Майдан и в 2004 году, и в 2013–2014 годах. Они как нация не готовы терпеть унижение. Ведь, собственно говоря, что произошло? От чего загорелись первый и второй Майдан? От оскорбления нации, от жеста неуважения по отношению к нации. Нации сказали: от вас ничего не зависит, мы сами решим, как вам жить. То же самое было сказано в России, когда на съезде «Единой России» объявили: «Мы посовещались и решили, что теперь президентом буду я, а Дмитрий Анатольевич пойдет работать премьером». Это плевок в лицо каждому. Этот плевок, конечно, не прошел незамеченным, он все-таки вызвал определенное протестное движение: Болотная площадь, проспект Сахарова. Но, знаете, это был протест, похожий на уламывание девушки, которая, в общем, все равно останется на ночь. Да, она скажет пять раз «нет», но это не «нет», и она понимает, что это не «нет». И уж тем более это понимает тот, кто хочет ее получить.
Но если вы, как Венедикт Ерофеев, любите глаза своего народа, которые он как раз сравнивал с уборной станции Петушки, то с чего бы вам особенно волноваться, когда кто-то говорит, что Путин...
А потому что не его собачье дело.
Путина?
Кустурицы.
А! (Смеется.) Хорошо. То есть мы будем жить, условно говоря, в говне, но не тебе нас учить.
Не тебе нас оскорблять. Мы сами разберемся. И более того: мы хотим разобраться.
Извините, кроме «Эха», «Дождя» и еще «Новой газеты», я как-то не вижу, чтобы кто-то в чем-то хотел разбираться.
Это правда, но нужно же понимать, какой прессинг оказывается на людей, в том числе ослабленных тяготами повседневной жизни.
Ну вот, в частности, на вас.
Да меня как раз невозможно ни сломить, ни надломить, я в этом смысле уже сформировавшийся человек, я точно и четко понимаю свой жизненный путь, и единственное, что меня может остановить, – это физическая смерть.
Я говорю о людях, которые живут не в столице. Которые вкалывают с утра до ночи, зарабатывая 300–400 долларов в месяц, которые никогда не выезжали не только за границу, но и в Крыму-то не были. Которые готовы на колени встать, чтобы у них взяли кровь за 850 рублей пол-литра, как в фильме «Кровь», потому что им жрать нечего. Они говорят: «Не идти же мне убивать и грабить. Купите у меня последние пол-литра крови» – и, сдав кровь, падают, не отходя от донорского пункта. Вот я об этих людях говорю. Этот человек приходит домой, как героиня моей картины «Труба», включает телевизор (а в некоторых регионах свет дают на час в день, ровно в тот момент, когда идет программа «Время», что я считаю просто извращенным цинизмом по отношению к людям), и ему сообщают, что вот мы наконец встали с колен, что мы сейчас надерем задницу всему миру, что мы запретили ввозить польские яблоки и латвийские сыры и они там уже отравились от запахов их гниения.
То есть вы заступаетесь за них?
Я считаю этих людей жертвами режима.
Да. Но вы же сами говорили, что что-то противостоит этой, скажем так, энтропии…
Вы хотите сказать, что все попытки изменить историческое предназначение и предначертание России как пространства беспробудного, консервативного тоталитаризма беспочвенны, что Россия – это болото?
Дыра.
Дыра, которая самим фактом своего существования определила свое будущее на века вперед? Я с этим не согласен.
Я тоже. Но это не то, что я хотел сказать. Вы, в частности, определяли людей России не только как тех, кто борется за выживание, но и как тех, кто этому режиму сопротивляется. И я хотел понять, кто эти люди. Их почти не видно.
Да, их немного. Но есть такая хитрость, которую можно использовать в обе стороны, как палку о двух концах. Заключается она в следующем. В России, в отличие, скажем, от Европы, не народ формирует власть, а власть формирует народ. В России бывали такие моменты. В России был Грозный, был Петр I. Он лично рубил бороды боярам. Он за шиворот вытаскивал Россию в Европу. Приходится констатировать, что это ему в конечном счете не вполне удалось, но последствия этой попытки европеизации России наблюдаются и триста лет спустя.
И что наблюдается?
Что наблюдается? Все же были созданы различные институции, существующие и по сей день, был заложен фундамент определенных общественных движений...
Суд?
И суд в том числе.
Но ведь вы знаете, что такое российский суд.
Я знаю, что такое российский суд сегодня, но институт суда все-таки существует. И даже люди, которые родились в Петербурге и выросли в окружении определенного архитектурного ансамбля, это несколько иные люди. Вообще говоря, у меня есть такая личная теория, нигде мною не подсмотренная, что Россия определенным образом климатически формировала быт человека на этой территории. Она формировала его пространство обитания. В целях сохранения тепла люди строили приземистое жилье, небольшое в объемах. Всегда маленькие окна, чтобы не было теплопотерь, и так далее. Люди из поколения в поколение рождались с прижатым потолком, с узким пространством существования и с маленькими прорезями во внешний мир.
Через которые можно только стрелять?
Допустим, я принимаю и такую аналогию. И это не проходит бесследно для его мировоззрения. Люди, живущие в иных климатических условиях, где есть возможность строить террасы, лежать на балконах и созерцать моря, океаны, восходы-закаты, иным образом формируют свой быт, и это дает, опять же, иное мировоззрение. Обвинять нас в том, что мы такие, нельзя. Но понимать, что сегодня мы можем себе позволить приступить к закладке принципов иного способа существования и вырваться из этих зажатых пространств, нужно. Я отдаю себе отчет, что в рамках моей жизни Россия Европой не станет. Я отдаю себе отчет, что в рамках жизни моих детей Россия Европой не станет. Но я готов и хочу смотреть дальше. Потому что я ощущаю себя частью России, хотя и рожден на Украине.
Вашу стройную теорию рушит то, что, например, у финнов дома еще ниже и окна еще меньше.
Вот пример финнов и является для меня как бы обстоятельством выживания моего индивидуального оптимизма. Потому что финнов взяли в свое время за шиворот и вытащили в иную жизнь.
Кто?
Исторические обстоятельства. Фин-
ны в силу, так сказать, слабости Советской России получили возможность выйти из состава империи. Выйдя из состава империи, они вошли в некую европейскую интеграцию, приняв так или иначе иные формы повседневного существования. Они стали над собой работать. У финнов были серьезные проблемы с употреблением алкоголя, они стали бороться с алкоголизмом на государственном уровне и так далее. В итоге сейчас Финляндия, которая граничит с Карелией... Мы смотрим на одну территорию и видим колоссальную разницу.
На съемках фильма «Труба» мы ехали на автомобиле и ждали в очереди как раз на границе Евросоюза в Бресте. Мы стояли ровно в том месте, где заканчивался забор Европы и начинался забор России. Забор европейский сделан из спрессованной решетки, которая специальными болтами прикручивается к нишам, заготовленным еще на фабрике: там есть специальные такие шайбочки, и все абсолютно разумно, логично, эстетично. А рядом этот забор заканчивается, и там вкопана ржавая металлическая труба, к ней проволокой привязана сетка-рабица, к этой рабице сверху накручена такая колючая проволока, которая, если ее подергать, начинает стрелять. И так как мы стояли долго, то первое ощущение было не то чтобы негодования, а очевидной симпатии к прекрасному, эстетически выверенному европейскому забору и негодования по поводу варварского и какого-то неуклюжего российского забора. Потом это первое ощущение отошло на второй план, и я вдруг сообразил, что ведь европейский забор очень легко перелезть: он крепкий, можно вставлять пальцы и двигаться, а вот русский забор – кривой, косой и ржавый – ты не перелезешь. То есть получается, что русский забор лучше! (Смеется.)
Да, да… Но вернемся к финнам. Скажите, а в XX веке российский народ хоть раз принимал решение, которое позволило бы ему хотя бы отдаленно стать похожим на финнов? В смысле быть свободными, жить свободно. И если не в XX веке, то, может быть, раньше?
Вы такой настойчивый человек, но и я тоже не буду сдаваться. Да, логика говорит о бессмысленности, но если ты не будешь делать бессмысленных вещей, зачем тогда все?
Да. Однако когда я посмотрел ваш фильм «Пляж», я вот что подумал. Там видны люди, которых – заранее извиняюсь за такое выражение – иначе как быдлом трудно назвать. Речь идет о людях, которые не в состоянии отдыхать на благоустроенных пляжах или на Западе и которые, как говорится, «оттягиваются» на славу. У меня нет ни малейших претензий на морализаторство, я не собираюсь говорить: «Ужас, как же так», но ведь вы же так себя не ведете. Мы говорим, что вы – часть русского народа, но здесь образуется явная дихотомия: они и я, они и мы. То есть это не те «мы», о которых вы говорите, когда говорите, что имеются попытки противостоять режиму.
Государство целенаправленно занимается дебилизацией населения. Я приведу такой, может быть, неожиданный пример. Притом что у нас не существует демократического выбора в стране, на всякий случай месяца за четыре до выборов на всех телевизионных каналах временно отключаются все интеллектуальные программы. Чтобы просто в течение определенного времени люди вообще не включали мыслительный аппарат. И когда мы говорим о «быдле», мы говорим о жертвах. А когда человек жертва, он заслуживает снисхождения. Когда его перемалывает система, он с большей готовностью превращается в то, что системе выгодно. Ведь то большинство, которое счастливо от присоединения Крыма к России, в Крым никогда не ездили и не поедут. Для них Крым – это не буквальное обретение, это компенсация за ежедневное, ежечасное унижение, которое они испытывают. Это компенсация за их, извините, выгребную яму в доме. Это компенсация за час электричества, это компенсация за газовую трубу под их городом, хотя в их городе нет газа. И власть поняла, нащупала форму, так сказать, игры с собственным народом, чтобы получить дивиденды здесь и сейчас. Но опасность этой игры заключается в том, что в эту топку нужно подбрасывать постоянно, эти дрова очень быстро выгорают. А подбрасывать особо нечего. Уже Крымом Россия себя вывела из пространства мирового сосуществования в маргинальную зону. И поэтому я бы сказал, что сегодня иллюзии оптимизма становятся уже даже не иллюзиями, а какими-то абсолютными фантомами. Если говорить о людях, которые готовы были сопротивляться (и я говорю не о политике, а об эстетическом сопротивлении), то надо признать, что сегодня мы проиграли. Эта игра закончилась. И здесь нужно, наверное, отступить, зализать раны и готовиться к новым сражениям, что сейчас и происходит. Мы наблюдаем полномасштабное отступление. Я думаю, его замечают и в Латвии (потому что очень многие отступают в Латвию), и во всем остальном мире. Кто-то отступает вообще в Гоа, отключаясь от суетного мира полностью.
Да, но лучше бы они это делали в более спокойной обстановке, а то это может показаться бегством. В Гоа, я имею в виду.
Да.
Вам принадлежит фраза, что несчастье российского документального кино заключается в том, что в нем все время жалуются. Но вы снимаете не своих коллег и друзей, хорошо одетых, хорошо мыслящих, интеллектуальную надежду России, – вы снимаете как бы реальность России, предполагая, что реальность – это как раз зомбированный народ, который мы видим в «Пляже». Пусть они жертвы, но они – это и есть настоящее.
Я сейчас снимаю фильм о своей семье, о своей маме. Эта картина уже в стадии производства. Ее уже купили шесть европейских стран. С другой стороны, не спорю, что есть некие клише востребованности. Но я вас уверяю, что здесь работает не тема как таковая.
Какая тема?
Любая тема. Сама криминальная история не работает, но когда появляется Герц Франк и снимает картину «Высший суд» или «Жили-были “Семь Симеонов”», когда появляется автор, когда он преломляет эту пусть даже весьма очевидную тему в художественный образ, тогда возникает заинтересованность зрительского пространства. Возникает та самая коммуникация с аудиторией. И самое главное, я никогда не говорил и не скажу, что в России плохо, а на Западе хорошо. Я всегда говорил и говорю: у нас по-разному.
Если говорить о фильме «Труба», то там есть принцип рефренов. И самый проявившийся рефрен – это похороны в российском поселке городского типа Сидорово, который реально стоит на газопроводе высокого давления, но в нем самом нет газа. И там мы снимали похороны мамы истопника в котельной. Так вот, чтобы маму похоронить, мужики на санях выехали в пять утра и начали долбить землю. Они выдолбили могилу к пяти часам вечера. А так как в городе знали, что московская группа снимает, выделили тягач, который привез гроб, иначе его тоже тянули бы на санях. И все это время родня сидела у гроба. А затем мы снимаем в Праге траурные церемонии в крематории, который как раз использует газ, – это такое величественное сооружение из мрамора, где на тележке под «Аве Мария» выезжает закрытый гроб и заезжает обратно, и люди, чтобы проститься с близким человеком в ланч-тайм в белых лаковых штиблетах, приезжают постоять пять минут и даже не роняют слезу на тело усопшего. И я вам скажу честно: я не знаю, где душевнее. Но где больше чувств, эмоций, для меня очевидно.
Вы говорите, что документальное кино – это художественный образ действительности или реальности. Скажите, при чем здесь художественный образ?
Я, откровенно говоря, вряд ли смогу объяснить, что такое художественный образ. Это вы можете сделать, я с удовольствием вас послушаю.
(Смеется.) Я бы объяснил, но со мной никто не делает интервью. И поэтому приходится надеяться все-таки на вас.
Я думаю, что образ реальности – это фильм «На десять минут старше», который является абсолютным образцом художественного документального кино, потому что мы не знаем имени героя, мы не знаем места съемок, мы не знаем, что это за спектакль, мы не знаем ничего. Хотя это абсолютно документальная съемка, она превращается в абсолютный художественный образ. А Шкловский, когда обвинял Дзигу Вертова в излишней художественности, говорил: «Я требую сообщить мне номер того паровоза, который едет на оператора». То есть Шкловский не давал документальному кино права на образ, он его воспринимал буквально, банально, примитивно, считал его документацией фактов. Борьба документального кино между художественным образом и документацией факта – это исконная дилемма, не разрешенная и по сей день.
Вернемся к «Пляжу». С одной стороны, там есть попытка вывести какое-то художественное обобщение – например, когда в конце показывается, что, вот, «белеет парус одинокий», а потом выясняется, что это не парус, а какой-то идиотский надувной матрац. С другой стороны, когда эти ребята ебутся в сарае...
На лодочной станции.
Да. Может быть, дело во мне, но для меня вся эта лирика испарилась, а остались только эти жесткие сцены. При этом нет чувства, что это жертвы. Я вижу только то, что происходит, и никакого преувеличения, никакого художественного образа там нет.
Прежде всего, два слова об истории этого фильма. Я снял фильм «Бродвей. Черное море» на этом пляже, это был последний мой пленочный фильм на 35 миллиметров... И я был не то чтобы огорчен, но понимал, что очень много фактур, очень много обстоятельств не попали в картину, потому что сама пленочная технология не позволяет оперативно реагировать, разворачиваться. Тогда я привлек своего коллегу, товарища, привез на это место, ввел его в пространство своих героев, познакомил со всеми, поселил там же, где сам жил, а потом еще пару раз приезжал в течение лета. В общем, в картине «Дикий пляж» я являюсь не автором, а соавтором. «Дикий пляж» мне очень нравится, я считаю, что это очень мощная картина, но если говорить о художественном образе, то он в большей степени присутствует именно в картине «Бродвей. Черное море». Это те же персонажи, это все то же, и вот как раз «Бродвей. Черное море» имел очень широкую фестивальную судьбу, потому что в нем было, может быть, меньше таких актов напряжения, но он был абсолютно художественным. «Дикий пляж» имел менее успешную фестивальную судьбу, но он в себя вобрал большее количество брутальной фактуры, которая в конечном счете, преодолев какой-то Рубикон, превращается в образ за счет повторения буквального.
Героев фильма вы назвали персонажами, то есть получается, что они работали с вами или, вернее, вы работали с ними. Вы платили им?
Нет.
Это я спрашиваю потому, что в фильме «Девственность» вы открыто говорите: мы платим.
Нет, не совсем так. Я открыто говорю, что когда мы нашли эту героиню, она поставила условие, что ей нужно заплатить.
Понятно. А я смотрел на этих ребят из «Пляжа» и думал: господи, ну как они это сделали?
Ребят взяли на слабо.
В каком смысле?
Ну, сказали им: «Вы же такие крутые парни, неужели вы на этом бескрайнем просторе женских тел никого не сможете закадрить? Неужели вам слабо?» Они отреагировали: «Нет, не слабо». И стали прикладывать максимум усилий для того, чтобы доказать, что они настоящие мачо. И на свою голову доказали.
И к ним вы тоже относитесь как к жертвам?
Понимаете, даже если я так не думаю, я так не скажу.
(Смеется.) Нет, так мы не можем. Мы делаем интервью, мы должны говорить.
Когда я снимаю кино, я хочу, чтобы мои герои говорили все, но когда меня спрашивают, я, конечно, выбираю, говорить мне все или только то, что я хочу сказать.
Когда я посмотрел фильм, я подумал: «Ладно, замечательно, ну и что?»
Ваше право. Можно увидеть «Троицу» Рублева и сказать: «Ну и что?» А можно посмотреть на «ну и что» и сказать: «Слушайте, так это же не “ну и что!”, это же писсуар Дюшана! Или “Черный квадрат” Малевича!» И ничто становится чем-то. А что-то становится ничем. В итоге мы говорим о том, что произведения не существует в отрыве от зрителя, от его интерпретации. И интерпретация иной раз делает тот или иной артефакт произведением или ничем. Я знаю людей, для которых этот фильм является чем-то. Таких людей немало. И я знаю людей, для которых этот фильм является ничем, потому что он недостаточно глубокий, недостаточно образный, недостаточно художественный. Я знаю людей, которые вообще не могут понять, что происходит на экране – в силу того, что они привыкли потреблять другого рода аудиовизуальный продукт, который лучше воспринимается в комплекте с попкорном.
В вашем фильме «Наша родина» документалист все время настаивает: «Давайте, ребята, как-то определитесь насчет родины». Не вполне понятно, думает ли он всерьез, что родина определяет человеческую жизнь, или же он настолько хитрый, что нарочно выбирает столь болезненный инструмент, чтобы с его помощью вывести собеседника в какую-то открытость. Вы считаете, что такие понятия, как родина, честь или невинность, могут стать отправными пунктами документальной работы?
В принципе, когда ты встречаешься с близким человеком, с которым тебя что-то связывает, ты можешь с ним говорить молча. Или, наоборот, можешь продолжать разговор. Ты можешь как бы входить в разговор в какой-то точ-
ке, отрезающей очень большую предысторию; все, так сказать, предварительные танцы можно опускать и сразу вторгаться. Я сам прожил жизнь не в том месте, где я родился, ностальгия – естественное для человека чувство, плюс это делалось на фоне так называемого и действительно существующего кризиса среднего возраста, природу, причину которого я естественным образом искал. И причина эта действительно была найдена в этом вопросе. К тому же двум-трем людям из всех своих героев я этот вопрос задал впрямую, а все остальные выходили на эту тему без моего участия. Да и встречались мы со всеми практически вне родины. Там, на родине, было полтора человека, остальных не осталось, поэтому мы были как бы связаны одним общим преступлением прошлого. Но, откровенно говоря, я не вижу необходимости подробнее на эту тему рассуждать – ведь когда чувство подвергается анализу, оно растворяется. Ну как разложить на сослагающие любовь? Когда ты ее разлагаешь, то в конечном счете ты можешь скатиться к банальному сексу.
Я обратил внимание, что вы где-то говорите: «В лучшем случае я начинаю со своей идеей работать, а что из этого выйдет, я не знаю». Это меня очень заинтересовало, поскольку те ваши фильмы, которые я видел, не производят впечатление того, что вы начали, не зная, чем это кончится. Наоборот. Поэтому я хотел спросить: а было ли, например, в фильме «Наша родина» что-то, что вас по-настоящему удивило и чего вы не могли предполагать, когда начали работать? Что, может быть, даже изменило ход вашей съемки?
Я несколько понижу градус ответа. То есть отвечу дважды. Первое: в производстве этой картины участвовало несколько стран, несколько телевизионных компаний, включая Arte, и все каналы добивались от меня сценария. Они требовали, чтобы я им написал, что произошло с каждым из моих одноклассников, где он живет, что он думает, что будет говорить. И я убеждал редакторов: «Понимаете, я их не видел 25 лет. Если вы хотите получить сценарий, я должен буду всех их найти, со всеми поговорить, и тогда мне не нужно снимать фильм». Он мне самому будет уже не нужен. Не говоря уже о том, что он будет совершенно другой и никакой. И я их убедил в том, что мы начнем снимать фильм с поиска журнала в школе, где всего два адреса, и все эти встречи будут первыми встречами после 25 лет. В этом и заключается мой подход, что я начинаю не зная. Но если говорить о пространстве моего познания, то, конечно, были вещи, которые сильно не совпадали с моими представлениями о том, с чем я столкнусь. Меня, например, крайне удивило, что какие-то люди, с которыми мы за все время учебы, может быть, двумя-тремя фразами обменялись, принимали меня как самого близкого человека, а человек, с которым мы, как мне казалось, в детстве дружили и даже воздушный телефон между нашими квартирами протягивали, хотя жили достаточно далеко, не хотел со мной встречаться.
Этот бизнесмен в Чикаго?
В Америке это было, да. И практически в последний момент он позвонил – видимо, потому что хотел отделаться телефонным разговором. Но я все-таки к нему поехал, и у нас был очень длинный разговор о жизни – о его жизни, конечно. В том, что он мне рассказал, не было ничего сенсационного, и я принял решение не давать наш разговор в картину. И получилось так, что люди восприняли это как недосказанность. Он стал получать какие-то тревожные звонки, письма, и когда я приехал во Львов показывать картину, мы собирались, одноклассники, и он со мной очень жестко разговаривал. Он говорил, что у нас, документалистов, вообще нет совести, что мы, так сказать, вторгаемся в чужую жизнь без спроса и хотим из нее компилировать свои сюжеты. То есть это была такая сложная, жесткая конструкция, но он меня, конечно, не убедил в том, что моя профессия аморальна, потому что я это и без него знаю.
Объясните.
(Молчит.) Ну потому что мы делаем свою авторскую мозаику, используя жизни других людей.
Но ведь вы это делаете ради великих целей.
Конечно! А ведь цель оправдывает средства.
Если вы так хорошо все это знаете, получается, что вы продолжаете снимать документальное кино только из-за того, что это единственное, что вы умеете? Семью нужно поддерживать?
Признаюсь, что я много что умею в жизни, что поддерживает семью значительно успешнее, чем съемка документального кино.
Вопрос вы поняли, но...
Я вопрос понял. Я согласен с тезисом, высказанным другим режиссером-
документалистом, Виктором Косаковским, что с точки зрения общечеловеческих принципов документалист является плохим человеком.
Ну зачем же так скромничать! Он является, я бы сказал, прямо-таки Мефистофелем.
Мне как-то «плохой человек» больше нравится.
(Смеется.) Без комментариев. Когда я посмотрел вашу «Девственность», я был поражен тем, что вам удалось найти такую девушку. Она просто чудо. И вот вы снимаете эту девушку до того, как она теряет невинность, и на следующее утро. И когда мы видим это тело, мы представляем, что ночью это же тело теряло то, за что ей заплатили три тысячи долларов. А когда я вижу вас в машине с ней, где вы как бы намекаете: «Не можем ли мы как-то помочь?» – и я при этом догадываюсь, что явно не можете, мне видится в этом что-то дьявольское.
(Молчит.) Не знаю, насколько читатели и зрители понимают суть работы режиссера в документальном кино. Я сейчас имею в виду следующее. Вот ровно этот разговор, который состоялся у меня с девушкой, я как постановщик фильма мог сделать так, чтобы меня не было в кадре. Когда мы смотрим документальное кино и человек рассказывает что-то, мы обычно не подозреваем, что напротив сидит режиссер и подбрасывает темы, ведет этот разговор, мы как бы просто смотрим человека и воспринимаем. И я, конечно, мог сделать так, чтобы это было просто откровение девушки. Но я, заранее зная, о чем буду с ней говорить, заранее зная, что я буду ей предлагать, взял на себя ответственность за этот разговор. Ответственность даже за то, что некоторые мои близкие и друзья мне это ставят по сей день в вину. И я это обвинение принимаю, потому что кто-то должен за это нести ответственность. И я, наверное, мог не только с ней поговорить, я мог бы, не знаю, сообщить ее маме или в милицию. В конце концов, просто насильно дать ей денег и проследить, чтобы она села на поезд и уехала. Потому что в принципе я понимал, что она приехала абсолютно готовой к этому шагу. Но не в этом дело. Дело в том, что я, Мефистофель, взял на себя эту роль осознанно. Это ничего не отменяет, но как бы в момент высшего суда прошу учесть.
А чем вы рискуете? Что это за ответственность? Я не вполне понимаю.
Ну, если хотите, в том числе за ее жизнь. За ее невинность.
Ну, здесь вы не преуспели.
Да. Вот за это я отвечаю.
Но когда вы решали, что будете снимать так, и предполагали, какой будет разговор, ради чего вы это делали?
Я не хотел прятаться.
Но здесь же нет охоты, это ведь искусство, разве нет?
Я даже сейчас не готов отматывать назад и как-то анализировать. Я почувствовал, что я так должен поступить. И все.
То, что вы не могли иначе, я понимаю, но вы же это еще и в фильм вставили, то есть это не только решение чисто личное, а решение и по отношению к тому, какую роль это будет играть в вашем фильме. Что вы хотели показать, показывая себя, режиссера, разговаривающим с этой девушкой?
Видите, я же не только показываю себя – я в случае с этой девушкой показываю обратную сторону этой вышивки. Узелки с обратной стороны.
Вышивка – это документальное кино?
Да. Я рассказываю и как мы ее нашли, и как мы с ней договаривались, и придаю публичности то обстоятельство, что мы ей заплатили деньги, что мы подписали договор. И еще я не хотел из нее делать... Она из трех героинь единственная, на мой взгляд, поступила честно. И я хотел ее как-то защитить. Я пожертвовал и фильмом, и какими-то своими имиджевыми моментами, чтобы эту героиню не уничтожить. Потому что боюсь, что если бы она была одна, возможно, этот эпизод ее бы раздавил. А здесь ответственность в каком-то смысле была разделена.
Напрашивается вопрос: а как же она сейчас, когда ваш фильм, наверное, прошел в прокате?
Она родила ребенка, вернулась к себе в свой город, замуж не вышла.
Ребенка с той ночи, что ли?
Нет. Нет. Нет. Слава богу, не с той ночи.
Слава богу. Но это не ответ. Когда вы ее показали, вы же могли подумать о том, что ее жизнь может усложниться из-за этого фильма?
(Долго молчит.) Напишите, что в нашем с вами разговоре повисла длинная пауза.
(Смеется.) Знаете, я бы, может, и не начал этот виток разговора, если бы вы не заговорили так высокопарно о Герце Франке и его фильме «Высший суд». Вы знаете книгу Трумена Капоте «Хладнокровное убийство»?
Нет, не знаю.
Это рассказ о том, как он в течение двух лет – так же, как Герц, – ходит к двум осужденным на смерть. Эти два молодых человека непонятно зачем расстреляли целую семью, четверых человек. И вот они начинают говорить с этим писателем, и он для них становится как бы надеждой на спасение. Они надеются, во-первых, что получат возможность как-то поговорить об этом, а во-вторых, что вдруг из-за этого разговора изменится их судьба. Ничего подобного. Их отправляют на электрический стул, а Трумен Капоте – что? Издает книжку. Зарабатывает на этой истории большие деньги. И вот спрашивается: как оценить то, что делает писатель-документалист? Его можно воспринять как исповедника, а можно сказать, что он просто делает свою работу и даже хорошо зарабатывает на этом.
Вот этот человек, которого снимал Герц, – хоть приговор и был приведен в исполнение и его лишили жизни – на самом деле благодаря фильму Герца продолжает жить, потому что мы к его образу возвращаемся ровно столько, сколько будет жить эта картина. Еще второе обстоятельство немаловажное, что в процессе этих общений и в процессе приготовлений к собственной смерти на моих глазах – я не буду за всех говорить – этот человек перерождается. И я вижу, что приговор приводится в исполнение уже другому человеку, не тому, который совершил это преступление. И именно то обстоятельство, что Герц является исповедником, может быть, в каком-то смысле отпускает ему грехи перед смертью. И он уходит, а значит, и остается в нашей памяти человеком очистившимся. А теперь поговорим о том, что да, наверное, Герц за эту работу получил в кассе Рижской киностудии гонорар. Полагаю, он с этой картиной куда-то ездил, где-то его селили, может быть, в хороших отелях. Наверное, он получал какие-то призы денежные. Но я как-то не готов ему это вменять в вину.
Почему ему? Вам, если уж говорить о «Девственности».
Мне? Значит, я хотел, чтобы мне это вменялось в вину, потому что иначе я мог легко, владея фильмом, этого избежать. Мне себя ввести было даже сложнее, чем избежать. Для того чтобы взять на себя ответственность, мне нужно было проделать значительно больше усилий, чем для того, чтобы, как все документалисты, остаться за кадром.
Разве не получается странная ситуация? Если бы вы не снимали, все осталось бы ровно таким же?
Да, конечно.
А зачем тогда снимать?
Был бы съезд нацистской партии, который снимала Лени Рифеншталь, если бы она его не снимала? Ну конечно, был бы!
Да, конечно.
Она сняла этот съезд. Она помогла партии в ее становлении?
Помогла.
Помогла. Сегодня материалы этого фильма являются материалами, предостерегающими нас всех, общество от повторения этого страшного опыта?
В начале нашей беседы вы говорили, что вы уже сложившаяся личность и вас не поменять какому-нибудь Путину. Допустим, что вы личность сложившаяся. Может ли фильм, следующий или предыдущий, сделать вас лучше?
Я хочу быть лучше. И я верю, что когда-нибудь я стану лучше. В этом смысле что-то меняется.
А вы заметили, что меняется?
Да, заметил. Я стал больше прощать. Я был раньше более непримиримым.
Прощать так, как в фильме «Дикий пляж»?
Нет, прощать так, чтобы понимать и принимать обстоятельства, которые вынуждают человека поступать так, как я бы не поступил, например.
Ваша специальность все-таки быть таким искусителем, при этом становясь лучше. Спасибо!
Спасибо. Я уже давно после интервью и даже до них себя не очень хорошо чувствую, поскольку… (Смеется.) Ну вы понимаете. Такая работа. Хотелось бы просто поболтать, поговорить, а приходится жестко.
А вы здесь живете или где-то в другом месте?
Здесь, в центре.
В гостинице?
Нет.
У знакомых?
Я квартиру купил.
А, даже так! Тогда до свидания.
Счастливо.