Регистрируйтесь, чтобы читать цифровую версию журнала, а также быстро и удобно оформить подписку на Rīgas Laiks (русское издание).
Не удалось соединить аккаунты. Попробуйте еще раз!
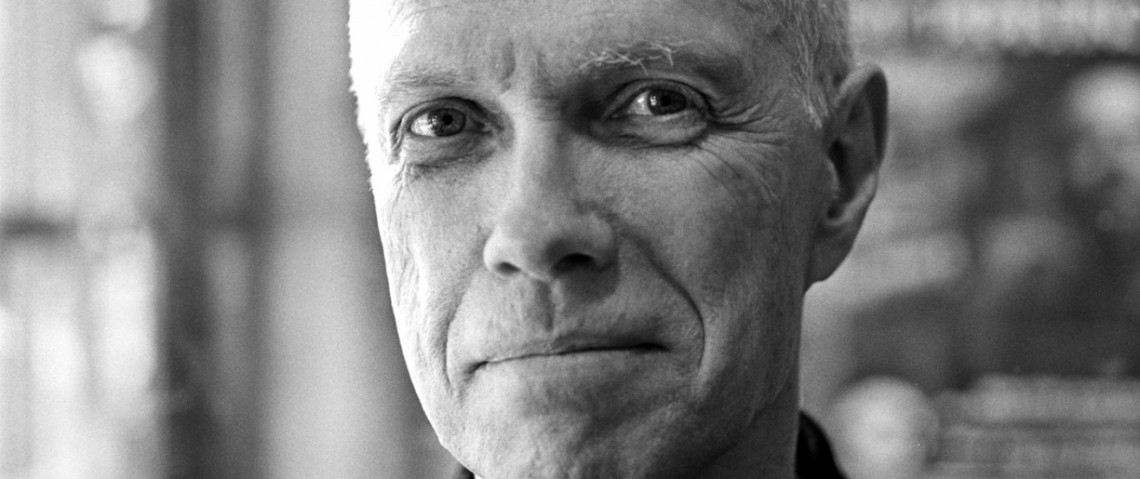
Большинство литераторов, с которыми я обсуждал фильм Джима Джармуша «Патерсон», сами выросли в провинции и уверяли меня, что повседневная жизнь поэта в маленьком городке именно такая и есть – тихая, однообразная, полная незаметных, трудно фиксируемых поэтичных мелочей. Будто созданная для таких неторопливых «наблюдателей жизни», как придуманный Джармушем поэт Патерсон.
Автор использованных в фильме стихов Рон Паджетт тоже родился в сравнительно небольшом городе Талса в штате Оклахома. В 50-е годы в Талсе особо активного поэтического андеграунда не было: настоящая жизнь в то время происходила в нью-йоркских джаз-клубах и квартирах, где вращались воспетые Гинзбергом «лучшие умы поколения». Однако в 1959 году Паджетт, одолжив пишущую машинку IBM Presidential у одноклассника и 20 долларов у матери, основал вместе с другом и единомышленником из соседнего дома Диком Гэллапом журнал авангардной литературы White Dove Review.
Это местное издание, скорее всего, не получило бы известности, если бы не смелая тактика, которую избрал Паджетт: не обращая внимания на агентов, издателей и прочие реалии медиабизнеса, он пригласил к участию в журнале таких звезд поколения битников, как Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Э. Э. Каммингс и другие. Удивительным образом большая часть поэтов, к которым он обратился, откликнулась на приглашение, и сейчас все пять номеров White Dove Review с подписями авторов и создателей хранятся в Университете Талсы в числе ценнейших книг библиотеки.
В 1960 году группа молодых поэтов из Талсы, в том числе и Паджетт, переселилась в Нью-Йорк. Там они стали частью крупнейшего неформального объединения литераторов и художников, знаменитой в то время Нью-Йоркской школы, но и в ней их считали зачинателями особого «стиля Талсы». При всей несовместимости богемного хаоса Гринвич-Виллидж с тем, как живут и говорят в Талсе, Патерсоне или любом другом мелком городе, в стихах Паджетта и теперь, после более чем двадцати сборников, сохранилась тональность, к которой хочется применить такие обозначения, как «простота», «рассудительность» и «покой».
Особенно ярко это проявляется в собранных Паджеттом коротких инструкциях «Как быть совершенным». Вот важнейшие из них:
Высыпайся.
Не давай советов.
Заботься о зубах и деснах.
Каждый день учи что-то новое (Dzien dobre!).
Не злись больше недели, но не забывай, что тебя разозлило. Подержи свою злобу на расстоянии вытянутой руки и посмотри на нее, как на стеклянный шар. А потом положи к другим своим стеклянным шарам.
Носи удобную обувь.
Не проводи слишком много времени среди людей.
Если кто-то убьет твоего ребенка, возьми дробовик и разнеси ему голову.
Планируй свой день так, чтобы никуда не спешить.
При любой возможности используй деревянные вещи вместо пластиковых и металлических.
Не думай, что прогресс есть. Его нет.
Не занимайся каннибализмом.
Не ходи по вокзалам, бормоча: «Мы все умрем!»
К концу жизни стань мистиком.
Читай и перечитывай книги.
Выкопай яму лопатой.
Пей побольше воды. Если спросят, что ты будешь пить, отвечай: «Воду, пожалуйста».
Рыгай и перди, но негромко.
Ходи в кукольный театр теней и представляй себя одним из героев. Или всеми сразу.
Если на улице стреляют, не подходи к окнам.
Свен Кузминс
Заранее прошу меня простить за то, что некоторые мои вопросы будут совершенно идиотическими.
Могу только заранее извиниться за идиотизм некоторых своих ответов.
Как вы отличаете прозу от поэзии?
Никак.
Никак?
Их необязательно различать. Иногда никакой разницы нет.
Как так получается, что все их различают, а вы – нет?
Ну, на самом деле я тоже, конечно, различаю, просто меня это не интересует. Не интересуют определения. Необязательно же об этом думать. Думать-то я, конечно, думал, но мне кажется, что это пустая трата времени.
Это относится к определениям вообще? Ко всем определениям?
Нет, речь идет именно о том, как определить разницу между прозой и поэзией. Понятно, что если вы читаете газету, то это проза, а если Шекспира, то поэзия. Но в какой-то точке они встречаются – скажем, в стихотворении в прозе, по которому не поймешь, проза это или поэзия. Либо и то, и другое, либо ни то, ни другое. Я об этой разнице особенно не думаю. Конечно, я ее чувствую, когда пишу, но…
По каким признакам вы эту разницу распознаете?
По тому, как поток слов заставляет менять синтаксис или обрывать строку, например. В прозе никаких обрывов строки не предполагается – там есть абзацы. А стихи чаще всего разбиты именно на строчки. Цели тут могут быть какие угодно, но на теоретическом уровне я этого не воспринимаю, могу только обсуждать конкретные случаи. Так вот, когда я пишу, если вдруг что-то мне подсказывает, что надо оборвать строку, я ее обрываю. А если нет такого побуждения, то не обрываю.
Но деление на строки – лишь один из способов создания поэзии.
Это способ создания текста, который выглядит как поэзия, да.
Но если взять, скажем, список правил в вашем стихотворении «Как быть совершенным» – почему это не просто список правил, а стихотворение?
Хороший вопрос. Если вы будете настаивать, что это просто список правил, я спорить не стану.
Но он же задумывался как стихотворение.
Нет.
Нет?
(Оба смеются.)
Нет, просто нечто такое написалось.
То есть самого себя вы воспринимаете скорее как писателя, нежели как поэта?
Если бы мне было нужно выбирать, поэтом себя назвать или писателем, я бы предпочел второе, потому что я пишу слова. Часть этих слов превращается в стихотворения, а часть – нет.
В вашей жизни был период, когда вы преподавали писательское мастерство. И поэтическое тоже.
Да.
Но чтобы этим заниматься, вам наверняка нужно было если не сформулировать определение, то хотя бы иметь четкое представление о том, что делает поэзию поэзией.
Как раз теоретизированием я вообще не занимался! Я работал в основном с детьмиот пяти лет до 18. Надеялся научить их писать с удовольствием – с удовольствием от того, что они что-то придумывают, от того, что могут писать обо всем, о чем им хочется. Я давал им какую-то отправную точку, назовем это так.
Какую-то тему или картинку?
Скажем, я приходил в класс и говорил: «Сегодня утром со мной произошло нечто странное. Проснулся и обнаружил, что ботинок нет. Потом гляжу – и брюки куда-то делись. С вами такого никогда не было?» Они отвечают: «Нет, никогда». А я продолжаю: «А потом выяснилось, что книг тоже нет, ни одной не осталось. И жена исчезла. Опускаю глаза и понимаю, что рук у меня тоже нет». Тут они мне уже не верят: «Нет, не может быть!» Я говорю: «Правильно, потому что в том, что я вам рассказал, нет ни слова правды. Но зато весело было все это придумывать, мне понравилось. Если бы вам нужно было придумать самую лживую ложь в мире, что бы вы сказали?» В ответ кто-то один предлагает свой вариант: «У меня голова из мороженого, а вместо ног – океаны!» Я говорю: «Молодец, отличная идея», и тут начинается! Они обнаруживают, что придумывать всякую блажь и врать – очень веселое занятие. Все приходят в восторг, и тут я им говорю, что задумки у них одна другой лучше, а теперь надо просто сесть и все их записать. И они садятся и начинают писать свои стихотворения. То есть я не приходил к ним со словами: «Дети, сегодня мы будем писать стихотворение, и делается это следующим образом». Это были чисто практические вещи, все объяснялось в процессе создания, когда они сами что-то делали. Естественно, за всем этим стоит какая-то теория, но я о ней думал в последнюю очередь. Иначе говоря, подход к обучению этих малышей у меня был чисто инстинктивный, я старался занять их тем, что, как мне казалось, им будет приятнее всего делать. Потому что мне нужно было преодолеть их нежелание писать! Потому что когда ты что-то пишешь в школе, то это обязательно какой-нибудь тест или работа на оценку, в которой кто-то будет исправлять ошибки… Обычно в школе детям писать не нравится. Мне нужно было освободить их из этой школьной тюрьмы, причем сделать это прямо в школе. Понятно, что я имею в виду?
Понятно, но пример, который вы привели, относится скорее к высвобождению и пробуждению творческих способностей и воображения, а не к поэзии как таковой.
Это правда. Но это и есть путь к поэзии. И порой у них действительно получались отличные стихотворения! Без дураков. А если бы я пришел и сказал: «Дети, сегодня мы будем сочинять стихи», они бы наверняка отреагировали вяло: «А может, не будем?»
Вы никогда не пытались составить сборник этих гениальных творений?
Таких сборников много. Потому что в конце 60-х и в 70-е годы у нас было целое движение «Поэты в школах», в рамках которого настоящие поэты ходили по школам…
Это было как-то связано с учителямипоэтами?
Да, изначально это была совместная инициатива учителей и писателей, в которой большую роль сыграл великий первопроходец, поэт-учитель Кеннет Кох.
У которого вы учились в Колумбийском университете.
Да, именно он увлек меня этой идеей учительствования. Но еще в 60-е годы был создан Национальный фонд искусств, и в области литературы у них была специальная программа, в рамках которой каждый штат получал деньги, чтобы приглашать поэтов преподавать в школах. Отличная была программа. Можно было преподавать раз в неделю или каждый день в течение двух недель, что-то такое. В результате появилась куча антологий детской поэзии.
Если сейчас оглянуться на ваш опыт преподавания, что, как вам кажется, дети вынесли из ваших занятий? Поэтами же они не стали.
Трудно сказать. Единственное, что могу сказать точно, – это то, что большинству моих учеников – а я учительствовал много и в самых разных уголках США – эти уроки очень нравились, они получали массу удовольствия. И другие учителя мне потом говорили, что им стало больше нравиться в школе, исчезло какое-то неприятие. На самом деле проводилось даже исследование, из которого выяснилось, что в школах, где преподавали поэты, посещаемость была выше, чем в школах, где их не было. И что дети будто бы говорили: «Сегодня будет поэт, нельзя пропускать школу». И я сам имел дело с учениками, про которых мне сразу же сообщали, что они ничего делать не будут, что они двоечники, никогда не реагируют на то, что им предлагает учитель, и так далее, но которые после моих уроков полностью преображались, включались в процесс, радовались вместе со всеми. Было видно, что им вся эта деятельность по душе. Помню одного конкретного мальчика, одиннадцати примерно лет, который был главным плохишом в классе. Крупный, задиристый, вспыльчивый, всегда готовый подраться; на уроках он никогда не работал, домашних заданий не делал. Я преподавал в его классе раз в неделю на протяжении учебного года. Он ни слова у меня не написал: просто отказывался – и все! Когда я вернулся в тот же класс на следующий год, я снова с ним столкнулся, а у меня тогда появилось желание попробовать поработать с совсем маленькими детьми, с пятилетками, которые тоже приходили в эту школу. Писать они толком еще не умели, поэтому мне нужно было самому за ними записывать. Но у меня не было никакой возможности подойти к каждому из двадцати детей и записать.
И вы взяли с собой этого плохиша?
Я обратился к своему старому классу: «Вы все знаете, как мы работаем, поэтому приглашаю вас к себе в ассистенты. Кто готов мне помочь?» И вижу, что этот мальчик, задира, тянет руку. Я подумал: «Вот это да…» Приходим к малышам, и выясняется, что он лучше всех справляется со своей задачей. Он вел себя как настоящий учитель. Сел за стол и говорит: «Так, дети, подходим сюда по одному, дурака не валять и не шуметь!» Из угнетаемого он превратился в уважаемого человека и после этого сразу же стал вести себя по-другому и у себя в классе. Потом его классный руководитель спросил меня: «Что вы с ним сделали?» И я ответил: «Не знаю, он сам все сделал!»
Все ваши примеры показывают, что, столкнувшись с поэтической работой, дети менялись. Некоторые из них преобразились. Как бы вы возразили мне, если бы я распространил ваш опыт преподавания на поэзию в целом и сказал бы, что функция поэзии – и для взрослых тоже – в том и состоит, что она преображает людей, меняет их мышление и образ жизни?
Я бы ничего не стал возражать!
Вы бы подписались под этим утверждением?
Я думаю, это вполне возможно. Можно найти массу примеров, когда, скажем, люди, оказавшись в тюрьме, начинают читать поэзию и внезапно становятся другими. Поэзия заставляет их иначе воспринять себя или иначе посмотреть на мир. Я слышал не одну такую историю. То есть да, конечно! Меня самого поэзия изменила, когда я с ней столкнулся, – вернее, когда я ее по-настоящему полюбил.
Как именно она вас изменила?
Она заставила меня осознать, что в жизни гораздо больше возможностей, чем я себе до этого представлял. Я вырос в провинции. Мои родители, мои бабушка с дедушкой, да и вообще все мои родственники были рабочие люди, которые выросли с чувством, что у них не так много возможностей в этом мире. И я в каком-то смысле унаследовал от них это отношение и лет до 15 его придерживался, пока не обнаружил в себе любовь к поэзии – такой поэзии, в которой ощущался оптимизм и открывались возможности, а именно к поэзии Уолта Уитмена. Не поручусь, что я пережил эту трансформацию только благодаря поэзии – к тому же любое такое «преображение» случается отнюдь не мгновенно, – но поэзия, уверен, этому способствовала, именно благодаря ей у меня возникло ощущение, что нужно просто распахнуть дверь и обнаружить что-то очень интересное уже за дверью. Потому что до этого я даже не понимал, что есть какая-то дверь: перед собой я видел только стену.
Из вашего примера следует, что поэтическое творчество, сочинение стихов, может преобразить их автора. Можно ли сказать то же самое и об опыте чтения поэзии?
Конечно! Я говорил именно о чтении, не о сочинительстве. Когда я сам начал писать, это, наверное, тоже меня изменило. Но об этом гораздо сложнее думать: как влияет на тебя писательство? Упрощенный ответ – может быть, даже слишком простой – в том, что порой в процессе письма автор сам себе удивляется, обнаруживая, что он пишет такие вещи, которые он и представить себе не мог, что напишет. Наверное, поэтическое творчество порой дает тебе возможность понять, что в мире и внутри самого себя еще можно что-то обнаружить.
Попробуем задержаться на этом уровне обобщения и посмотреть, какие еще функции можно было бы приписать поэзии.
Я не знаю, Арнис, честно, не знаю… Я просто пишу стихи – я не надеюсь изменить мир или спасти чьи-то души…
Тогда зачем вы их пишете?
Понятия не имею! (Смеется.) Если бы я знал, я бы, может, их и не писал.
Значит ли это, что на самом деле их пишет нечто внутри вас?
Порой это занятие мне доставляет очевидное удовольствие – это явно одна из причин. Порой мне совсем не нравится это делать, но…
Но вы все равно пишете.
Да. Отчасти потому, что я уже старый человек, я столько лет этим занимаюсь, что мне ничего не остается делать, как продолжать этим заниматься. Это для меня все равно что дышать – ты всегда это делал, и нет никаких причин прекращать.
Думали ли вы когда-нибудь о взаимосвязи того «я», которое являет себя в ваших сочинениях, и «я», с которым вы живете в повседневности?
Да, конечно!
Как бы вы описали их взаимодействие? Как минимум этих двух – потому что их ведь может быть и больше.
Как минимум двух, да! Взаимодействие… Что бы вам хотелось знать об их взаимодействии? Не уверен, что смогу ответить, но давайте попробуем.
Я не жду от вас какого-то точного ответа – мне просто интересно, думали ли вы об их взаимодействии. Вы говорите, что они влияют друг на друга.
Подозреваю, что да.
Приведите, пожалуйста, пример, когда «я» из стихотворения как-то на вас повлияло или продолжает влиять до сих пор.
Один пример, наверное, у меня найдется. Был период, когда «я» в моих стихах стало неожиданно менять направление разговора или отказываться от своих мнений. Или в стихотворении появлялось некое утверждение, после чего авторский голос вдруг говорил: «Подождите, я же совсем не то имел в виду!» И таким образом в стихотворении возникал внезапный поворот… Через некоторое время я понял, что этот прием освободил меня самого, я и в обычных разговорах стал гораздо больше себе позволять.
Внезапно менять мнение?
Не столько менять его, сколько пересматривать, а потом открыто признавать, что я его пересмотрел. Сказать что-нибудь, а потом добавить: «Подождите, я на самом деле имел в виду не это – я имел в виду то-то и то-то». Мне кажется, что именно «я» моих стихотворений подтолкнуло меня к какому-то сближению моего повседневного «я» с «я» поэтическим.
У меня сложилось впечатление, что во многих ваших стихах присутствует автобиографическая нота.
Да, конечно.
Приведу конкретный пример. Насколько я помню, это стихотворение называется «Предисловие к философии».
Да, есть такое.
Мне интересно, насколько автобиографично это ощущение никчемности и абсурдности жизни.
У меня бывали периоды в жизни – особенно когда мне было 15–16–17–18 лет, когда меня ни на минуту не покидало ощущение абсолютной бессмысленности жизни.
Но при этом вы продолжали жить как обычно?
Да, конечно! Это чувство может с легкостью возникнуть, когда ты чем-то сильно огорчен или что-то тебя угнетает. Моменты уныния и отчаяния – благоприятная почва для возникновения этого чувства: что жизнь не имеет никакой ценности и никакого смысла. Я и сейчас думаю, что смысла в жизни немного, но представляет ли она какую-то ценность – это уже другой вопрос.
То есть она абсурдна в каком-то смысле.
Да. На самом деле я всего-навсего экзистенциалист старой закалки. (Смеется.) Безнадежно устаревший.
По сей день?
Думаю, что, в общем, да… Конечно, есть масса нюансов, не так все прямо… В стихотворении, которое вы упомянули, «Предисловие к философии», я пытался представить правдивый и точный отчет о том, что я помнил о своей реальной жизни. Старался свести воедино «я» поэтическое и «я» реальное, пытался говорить предельно прямо и быть по возможности честным, не вдаваясь в нюансы и оттенки. Просто рассказать о том, что было.
То есть вам действительно в 15 лет попалась в книге строчка, которая стала эпиграфом этого стихотворения?
Да! Я нашел у себя эту книгу – она у меня где-то валялась на протяжении всех этих лет. Я помнил, как я ее читал, но уже не помнил, о чем там шла речь, поэтому стал ее перечитывать и обнаружил эту строчку, она меня поразила, и я начал писать это свое стихотворение.
Но если все это было написано спустя столько лет после изначального переживания…
Через много лет, да.
…мне хотелось бы понять, как это ощущение абсурдности жизни может оставаться с автором, пишущим об этом через столько лет. Вы как бы подтвердили, что часть тогда пережитого по-прежнему с вами.
Конечно, оно со мной.
Но если жизнь настолько абсурдна, зачем тогда жить?
(Смеется.) Ну потому что… Да масса причин есть для этого! Например, потому, что так или иначе я родился – какая-то инстанция создала форму жизни в виде меня, вас или еще кого-то. Мы все созданы.
Но это могло произойти по чистой случайности!
Конечно! Это ничего. Не важно на самом деле, случайно это произошло или нет. Я и в самом деле был создан совершенно случайно.
(Смеется.)
Мама мне об этом рассказала спустя уже много лет… Но это не важно. Суть в том, что эта жизненная сила – élan vital, как называл ее Бергсон, – очевидным образом существует, и на мою долю выпало обладать этой силой, быть живым. Попытка отрицать существование этой силы мне кажется проявлением предельной гордыни и тщеславия. У меня нет права решать, что нечто меня превосходящее, нечто уже созданное…
Но созданное без вашего согласия.
А с какой стати жизненная сила должна вообще что-то у меня спрашивать? (Смеется.) Я же просто ерунда какая-то! Что я могу сказать? Но, кроме того… Еще одна причина продолжать жить – в том, что я получаю от жизни удовольствие. Я, как правило, получаю удовольствие от многих вещей, хотя с возрастом это становится все труднее… Плюс к тому, у меня есть обязанности – по отношению к жене, к сыну, к внукам…
Но тогда далеко не все абсурдно.
Нет, конечно, не все. Я просто имею в виду, что жизнь в целом абсурдна.
Абсурдна в том смысле, что она нелогична, что ее невозможно разгадать?
Я ничего не могу разгадать – для меня это все не имеет никакого смысла! (Смеется.) Но это не значит, что ее не следует чтить.
Чтить как тайну, как нечто, что недоступно твоему пониманию?
Да, как нечто поразительное. Человеческая жизнь… Поражает, конечно, любая жизнь, но с моей точки зрения – возможно, я ошибаюсь, – люди заметно отличаются от других созданий.
Чем?
Нас отличает сознание…
Или, например, способность создавать поэзию?
(Смеется.) Да, то, что писание стишков мы готовы считать чем-то важным. И это правда – не так много червей занимаются поэзией… Я допускаю, к примеру, что среди всех живых существ только люди осознают собственную смертность и способны ее артикулировать. Хотя, может быть, я ошибаюсь, потому что не владею языком деревьев или слонов. То есть выносить категорические суждения мне бы здесь не хотелось. У нас была собака – красивая, славная, милая собака…
Как ее звали?
Сьюзи. Когда мы ее нашли на улице здесь, в Нью-Йорке, она была еще щенком. Мы взяли ее к себе, и она прожила с нами до самой смерти. Но до самого последнего момента она не проявляла никаких признаков понимания того, что она умирает. Она знала, что болеет, но кроме этого ничего особенного в ее поведении не было. В любом случае у меня были друзья и знакомые, которые покончили с собой, и как только мне удавалось подавить в себе гнев, вызванный их поступком, я понимал, что обязан уважать даже такое их решение. Но сам я никогда серьезно не думал о самоубийстве. Не думаю, что я на это способен. Хотя в жизни ни в чем нельзя быть уверенным…
Но раз уж вы называете себя экзистенциалистом, то это и есть один из вопросов экзистенциализма, как минимум в некоторых кругах: почему бы не покончить с собой?
Верно. И в ответ на этот вопрос они создали специального персонажа, называется l’homme engagé. Так что я, наверное, тоже engagé.
И чем же вы ангажированы?
Самой жизнью. В какой-то момент начинаешь сочувствовать этому жизнеутверждению – несмотря на всю абсурдность или, может быть, именно благодаря ей, не знаю. Читаешь, например, старую даосскую литературу, и там обнаруживаются такие вещи о природе реальности! Кстати, очень похожи на те, что мы с вами сейчас обсуждаем. Вещи крайне парадоксальные. Даосские тексты вообще часто парадоксальны. Но в то же время все они, как мне кажется, утверждают жизнь! И это довольно красивые тексты. И вот если соединить сочинения Чжуан-цзы и сочинения, скажем, Камю, а к ним прибавить, допустим, что-нибудь из текстов дада – например, Тристана Тцару, – то можно получить очень интересную картину мира.
Несколько лет назад один мой друг перевел семь глав Чжуан-цзы на латышский и издал их тиражом в пять экземпляров, для друзей. Мне очень нравится текст – в той мере, в какой я его понимаю. И я заметил в ваших стихотворениях кое-какие темы из Чжуанцзы.
Я даже прямо его упоминаю. В двух стихотворениях, мне кажется.
Но как вы воспринимаете Чжуан-цзы и его тексты? О чем они? Какое воздействие они на вас оказывают? Потому что ведь какое-то уже оказали, верно?
Во-первых, они сломали мне мозг, и это прекрасно… (Смеется.)
(Смеется.) Что вы имеете в виду?
Под воздействием этих текстов я пробую думать так, как я думать не могу, и это завораживает. В одном из стихотворений я цитирую Чжуан-цзы – ты это читаешь, а понять это невозможно! Высказывание настолько лаконично и обтекаемо, настолько парадоксально, что мне никак его не понять. И в этом огромное удовольствие! Потому что это не бессмыслица – бессмыслицу сочинить на самом деле очень просто, и обыкновенная бессмыслица ничего, кроме скуки, не навевает, как и одержимость, кстати… Но у Чжуан-цзы все не так. Он чем-то похож на философов-досократиков. Я их знаю плохо, но кое-кого читал и помню, как меня поразила сложность их мысли, даже какая-то утонченность.
И большая часть всего этого написана в стихах.
Совершенно верно. Соответственно, меня интригует даосская мысль в целом. Она действительно какая-то другая, совсем не похожая на западную мысль, на мой взгляд. Уверен, что наверняка есть какие-то параллели, о которых я просто не знаю, но мне она представляется существенно иной.
Мне говорили, что в средневековом Китае Чжуан-цзы стал главным вдохновителем подпольного движения, к которому принадлежали бродяги, художники, поэты, мошенники и прочие скитальцы и странники.
Свободные радикалы.
Не принимавшие ни политического, ни какого-либо другого истеблишмента.
Конфуцианского в том числе.
Но если судить по вашей биографии, насколько она мне известна, вас нельзя назвать ни подпольщиком, ни борцом с системой. У меня сложилось впечатление, что вас вообще не волнует, что происходит в большой политике. Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь, конечно.
Ошибаюсь? То есть в душе вы обычный левый интеллектуал?
Боюсь, что да.
(Оба смеются.)
Скучный старый левак, да. Не крайне левый: быть крайне левым – большая ошибка… Сегодня утром я потратил довольно много времени – да, собственно, я каждый день это делаю с тех пор, как стали известны результаты президентских выборов, – на подписывание петиций, составление писем, перевод денег организациям, которые пытаются противостоять нынешнему политическому кошмару.
Зачем?
Я так лучше себя чувствую.
Вы чувствуете себя лучше, будучи вовлеченным? То есть вы engagé не только жизнью, но и политикой?
Ну да. Я бы предпочел не быть ангажированным в этом смысле. Мне было бы лучше, если бы в этой стране в политическом плане все было настолько благополучно, что мне не надо было бы об этом думать. Но, к сожалению, это не так. Все очень неблагополучно. У меня есть совесть, есть моральные принципы, и я не могу позволить себе сидеть тихо и ничего не делать.
Но как это сочетается у вас с Камю, Чжуан-цзы и Тристаном Тцарой? Какое место политическая вовлеченность занимает среди прочих составляющих вашего бытия?
Ну просто я такой, уж не знаю, что вам ответить. (Смеется.) В молодости я так прямо политикой не занимался. Участвовал, конечно, в маршах против войны во Вьетнаме, довольно рано уничтожил свой военный билет, ходил на акции против распространения ядерного оружия и прочее – но все это было типично в то время для такого человека, как я. Но ни в какие политические организации я не вступал, политика не была центром моей жизни. Может, потому, что она мне казалась крайне скучной. Меня занимало искусство, литература, музыка, друзья, а чуть позже – ребенок…
У вас очень мало стихов, в которых говорится о политике. Может, поэтому я решил, что она вас не занимает.
Очень даже занимает. А политических стихов вы у меня не видели не потому, что я их не пишу, а потому, что я их не публикую. Они очень плохие.
(Смеется.) И как вы это объясняете? Этот предмет представляет для поэзии какую-то особую трудность?
Нет. Думаю, дело в том, что полная вовлеченность и необходимость отстаивать свои убеждения убивают во мне всякую способность написать приличное стихотворение. Стихи получаются избитые, проповеднические. Поэтому я прекрасно понимаю, что если я выступаю, скажем, против строительства атомных электростанций или, например, против войны, то мне лучше написать эссе или речь. Потому что ничего стоящего в области политической поэзии у меня почти никогда не получалось. То же самое можно сказать едва ли не обо всех моих соотечественниках: во время вьетнамской войны многие достойные поэты писали антивоенные стихи, и все эти стихи были беспомощные. Скучные, предсказуемые, безжизненные, затасканные. Но во всех них чувствовался гнев, все они были искренними. Так напиши речь – зачем писать стихотворение?
А почему этот предмет столь чужд поэтической форме?
Я не утверждаю, что о нем невозможно писать стихи, – я только говорю, что это очень и очень трудно. Лучшее, что мне в этом плане удалось, я написал не так давно. Если я правильно помню, стихотворение называется «Абсолютно чудовищная и неслыханная несправедливость мира». Там говорится о политике. На мой вкус, вещь не то чтобы очень плохая, поэтому я ее опубликовал.
Но вы же не просто так утверждаете, что какое-то одно стихотворение годится, а другое – нет. Вы пользуетесь какими-то определениями вроде «живость», «незатасканность», «энергия». Больше всего меня интересует «энергия»: как стихотворение может нести в себе энергию? Соглашусь с вами, бывают очень энергичные стихотворения. Мне интересно, на чем эта энергия держится.
(Смеется.) Вероятно, это зависит от языка, от того, о каком языке вы сейчас говорите. Что касается английского, то записанное на бумаге слово – это просто черные знаки на белом (обычно) фоне, но как только к этому слову обращается наш мозг (при условии, что мы знаем, что это слово значит, скажем, «чай» или «стол»), оно пробуждает в нас разного рода ассоциации. Мы все знаем, что такое стол…
Или думаем, что знаем.
Да, мы думаем, что знаем, мы даже можем вспомнить какой-то конкретный стол, чем-то для нас значимый. Обеденный стол, за который усаживалась вся семья, когда мы были маленькими, например, – мы помним, как он выглядел, как за ним сиделось…
То есть вы хотите сказать, что даже слово «стол» способно нести в себе энергию, если оно пробуждает в сознании читателя какие-то ассоциации?
Совершенно верно. А потом, когда ты обнаруживаешь в стихотворении, помимо слова «стол», еще и другие связанные с ним слова, ты получаешь не только поток ассоциаций, но и поток звуков, потому что даже если ты читаешь про себя, ты все равно слышишь все это в голове, и этот звук тоже создает определенную энергию, определенный поток. И в конце концов – или, может быть, даже не в конце концов, а кроме того – стихотворение создает (если создает, конечно) некую синтаксическую структуру, как бы разгоняющую поток слов: возникает ощущение, что стихотворение будет продолжаться, что оно не устанет на полдороге и не остановится. В хороших стихах энергия будет чувствоваться от начала до конца, импульс не иссякнет; частично это достигается за счет смысла, частично – за счет звука, за счет ассоциаций, которые возникают у читателя… И еще одним важным фактором является, конечно, синтаксическая структура.
Таким образом, вы утверждаете, что есть синтаксические структуры более, а есть менее энергичные?
Необязательно более энергичные – скорее способные нести на себе больший заряд и более мощный поток. Если взять прозу, то хорошим примером будет Пруст или романы Генри Джеймса. Эти люди пишут предложения, переходящие со страницы на страницу без каких-либо остановок, – одно многостраничное предложение! Можно, конечно, считать это излишеством или чем-то еще, но если вам такой тип письма нравится, следить за ходом этих предложений все равно что нестись сломя голову – дух захватывает, чувствуешь себя как в машине, которая никогда не остановится, – всю дорогу от начала предложения до конца.
Раз уж вы заговорили о Прусте… Я слышал, вы говорили, что если удастся продраться через первый том, то дальше все пойдет как по маслу. А что не так с первым томом?
(Смеется.) Когда я в первый раз открыл «В поисках утраченного времени», я прочитал страниц тридцать, почувствовал страшную сонливость, а уже проснувшись, обнаружил, что книга просто выпала у меня из рук. Тогда я подумал, что потом дочитаю. Но не дочитал! Прошло несколько лет, я решил, что надо бы прочитать Пруста, пора уже… Начал снова, прочитал страниц тридцать и опять уснул! Это повторялось три или четыре раза в течение 15 лет. (Смеется.) Но потом как-то зимой – я тогда очень комфортно устроился, один знакомый попросил нас с женой пожить в его доме на Лонг-Айленде, и в доме этого человека обнаружилось первое американское издание «В поисках утраченного времени».
То есть вы читали по-английски?
Я снял с полки первый том и обнаружил, что эта книга когда-то принадлежала матери хозяина – там было вписано ее имя. Я начал читать, и прелесть старого издания плюс ассоциации, которые у меня были связаны с матерью этого человека, шрифт опять же, щедрые широкие поля… Я стал читать, и в тех условиях – зима на Лонг-Айленде, в доме ни радио, ни телевизора, заняться, кроме чтения, нечем – оказалось, что книга очень легко читается. Я прочел первый том…
Не заснув на тридцатой странице.
Да! Книга показалась мне замечательной, и я подумал: «Прочитаю-ка я и второй!» Так начался мой марш по прустовскому роману. Я поделился этим с женой, у которой с этой книгой была та же проблема, что и у меня, она тоже засыпала. Говорю: «Знаешь что, попробуй прочитать первый том здесь – может, на этот раз у тебя будет другое впечатление». Она стала читать и тоже попала под обаяние этой прозы. Так мы и читали – она отставала от меня на один том – без передышки, пока не дошли до конца! Когда дело дошло до последнего тома, особенно когда до конца оставалось 50–100 страниц, я стал стараться читать как можно медленнее, потому что мне не хотелось, чтобы эта книга закончилась. Это было огромное удовольствие, огромное.
Чему вас научил роман Пруста?
(Смеется.) Не знаю, научил ли он меня чему-нибудь! Он дал мне возможность заглянуть в радикально иной мир, чем тот, в котором я вырос. Кроме того, как я уже говорил, меня поразила структура предложений. В остальном же это было просто погружение в другой мир и возможность побыть со всеми этими людьми. Большая радость. Надо бы еще раз перечитать. Боюсь только, что если я снова возьмусь за этот роман, он уже не так сильно мне понравится, а мне бы хотелось до конца жизни любить эту книгу – и вспоминать, какое наслаждение она мне доставила.
Мы с главным редактором нашего журнала уже давно спорим, кто важнее – Пруст или Джойс. На чьей вы стороне в этой вечной битве?
Ни на чьей. На обеих. Они оба совершенно замечательные. Если не считать стихов Джойса – слава богу, у него их немного… Но, начиная с «Дублинцев» и кончая «Поминками по Финнегану», я большой его поклонник.
Вам удалось продраться через «Поминки по Финнегану»?
Да, конечно, я прочитал их за неделю. Я тогда учился в университете, и мой учитель, Кеннет Кох, вел по этой книге курс, разбирая ее как комический роман.
Каковым она во многом и является.
Конечно! Я возвращался вечером в общежитие и читал ее у себя в комнате по пять часов кряду с огромным удовольствием. Кеннет сказал одну вещь, которая, как выяснилось, оказалась правдой: он сказал, что если хочется увидеть гениальный сон – языковой сон, сон о языке, – то надо часа два-три почитать «Поминки по Финнегану», а потом сразу ложиться спать. Тогда, мол, обязательно увидишь удивительный сон о языке. Он был прав!
В какой-то момент нашего разговора вы упомянули досократиков.
Боюсь, что да. (Смеется.)
В ваших стихах меня поразила степень их включенности в философскую мысль, знание каких-то авторов. Можно ли сказать, что философия оказалась благодатной почвой для вашего поэтического воображения?
Не знаю, оказалась ли она благодатной почвой именно для моего поэтического воображения, но это в целом благодатная почва. Время от времени я пытаюсь серьезно разобраться в каком-нибудь конкретном мыслителе, хорошенько его прочитать – скажем, несколько лет назад я прочитал Беркли.
«Абстрактных идей не бывает»?
Так точно.
(Оба смеются.)
Притом что само это утверждение – вполне себе абстрактная идея! (Смеется.) В общем, я прочитал Беркли, потом пытался читать Декарта, позже читал Парменида… В университете нам все это давали в отрывках, поэтому периодически я стараюсь выкроить время, чтобы вернуться и перечитать кого-нибудь.
Что вам это дает?
Опять же, это попытка проникнуть в чужую голову и посмотреть, как этот человек думал, как работал механизм его мысли – хотя бы так, как это отразилось в том, что и как он писал, ибо что он думал на самом деле, я, конечно, знать не могу… Как минимум из этого можно получить какое-то представление об устройстве его мысли и о том, к чему так устроенное мышление может привести, а к чему не может. Когда читаешь, как Декарт сидит за столом и следит за догорающей свечой, – это же поразительно красиво! Пассажи вроде этого навсегда остаются в памяти. Но, быть может, я питаю какое-то преувеличенное уважение к философам. (Смеется.) Кое-кто из тех, кого я читал, либо пишут откровенную бессмыслицу, либо ужасно скучные!
Кто, например?
Если вы готовы считать Гегеля философом… Все, что он пишет, мне показалось какой-то напыщенной скукотой. Интересно, что при этом мне очень нравился Уайтхед! Я читал его, когда мне было лет 19–20. Читал «Процесс и реальность» и «Способы мышления», и они привели меня в абсолютное восхищение! Лет пять или десять назад я решил вернуться к этим книгам, открыл и понял, что не могу это читать, потому что это ужасно плохо написано!
Я недавно тоже заглядывал в «Процесс и реальность», и мне это тоже показалось страшно устаревшим. Но у Декарта или у Парменида ничего такого не чувствуется.
Или у Спинозы!
Да. Эти вещи почему-то не устаревают.
Да. Для меня не устаревают, как бы там ни было. Но я очень уважаю философов, потому что они думают обо всем этом просто ради того, чтобы думать, ради радости мышления, удовольствия от мысли, просто потому, что это их увлекает. Философ – это вам не ученый, который пишет свою книгу, потому что он работает в исследовательском институте и ему обязательно надо что-то исследовать, в связи с чем он и пишет свою книгу, и в этом нет ничего плохого, просто… Философия мне всегда казалась занятием более чистым. В чем-то на самом деле похожим на поэзию!
Возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что у поэзии и философии один и тот же источник.
Может, и так. Я не знаю.
У Парменида, например, невозможно даже отличить, где поэзия, а где философия.
Да. Или наука, или геометрия… Как у Архимеда, например…
Как они, по-вашему, соотносятся, поэзия и философия? Вы сказали, что и то, и другое – занятия чистые…
Не знаю, насколько они все чистые, но в моих глазах они гораздо чище прочих занятий.
А чисты они от чего?
Они свободны от самомнения, там ничего не делается ради личной выгоды. Мне трудно представить, что, например, Парменид сидел и думал, как бы ему написать что-нибудь такое, что принесло бы ему успех в этом мире. Или взять Декарта! В миру-то он был солдат-вояка, да? Наверняка приходилось ему убивать, хотя точно я этого не знаю, но когда он становился философом… Или Спиноза, скажем. Вот живет себе Спиноза, обтачивает эти линзы в крохотной своей мастерской, зарабатывает этим… Но потом вдруг откуда-то возникают эти невероятные концептуальные структуры, которые он тщательно продумывает. Их не продать, никакая девушка не станет с ним спать из-за того, что он все это придумал… (Смеется.) Понимаете, что я имею в виду? Я, конечно, вижу, что я только что создал иерархию, в рамках которой философия стоит «выше» всего остального. Но я сделал это исключительно в рамках нашего разговора. Потому что в глубине души я считаю, что человек, который, например, готовит еду из чистого удовольствия от ее приготовления – не для того, чтобы продать ее, а просто ради того, чтобы приготовить что-нибудь необыкновенное и кого-нибудь этим накормить, – для меня этот человек стоит так же «высоко», как и философ.
Или поэт.
Или поэт, конечно же!
Но поэтам их стихи наверняка помогают соблазнять девушек?
Такое бывало, да. С этим не поспоришь. Я просто хочу сказать, что при всем моем огромном уважении к философам я уважаю их не больше, чем своего деда, который был фермером.
Давайте представим – исключительно в рамках нашего разговора, – что есть некое «реальное положение дел». В этом смысле кто, на ваш взгляд, ближе к «реальному положению дел»: фермер, поэт или философ?
Но разве это не зависит от конкретного фермера, конкретного поэта и конкретного философа? Фермер-то у нас умный?
Умный и очень трудолюбивый. Он любит свое дело.
Мой гипотетический ответ на ваш гипотетический вопрос будет состоять в том, что они все трое…
Одинаково близки?
Одинаково близки к «реальному положению дел», да. Одинаково близки, хотя исходят из разного. Но сходятся в одной точке. Все это, конечно, чисто гипотетически. Мы с женой иногда живем на севере в штате Вермонт, в настоящей деревне, среди высоких холмов и деревьев… У меня там небольшой огородик. Каждый год мне приходится перекапывать землю, удалять сорняки, разравнивать граблями грядки, высеивать, а потом следить за этим все лето, периодически пропалывать. Но стоит мне опуститься на четвереньки… Я постоянно что-то делаю с землей – здесь нужно досыпать, там нужно убрать… Конечно, это очень реальное занятие, оно ничуть не дальше от реальности, чем сочинение стихов, философствование или что-то еще. Мне это кажется ничуть не менее достойным занятием, чем все вышеперечисленное.
А как поэзия пробивается к «вещам»? Фермеры, понятно, работают на земле, имеют дело с растениями или животными – они действительно близки к «вещам».
К физической реальности.
С чем же имеет дело поэзия?
Ну, бывает, что поэзия имеет дело с реальностью духовной. Или с какой-то конкретной духовной реальностью.
А есть такая вещь, как духовная реальность?
Да, реальность человека, пишущего стихотворение. У нас у всех есть что-то духовное – ум у нас есть и дух, и… Не хочу произносить слово «душа», потому что хоть это и очень интересное слово…
(Оба смеются.)
Пожалуй, больше всего ваши стихи привлекли меня присутствием в них смерти как своего рода тайны – но тайны необходимой. Прекрасной и печальной тайны. Как возможно сказать о смерти хоть что-нибудь подлинное? Вы же еще не умерли.
Нет, не умер. Вероятно, после смерти я не буду писать стихи. Не думаю, что буду.
Не думаете? А чем же вы тогда будете заниматься?
Чай буду пить с печеньями. Типа этих.
Сократ собирался вести разговоры.
Ну, он жил в другой вселенной, где все не так, как в моей. (Смеется.)
В вашей вселенной нельзя писать стихи после смерти?
Нет, можно, конечно. Но если вернуться к вашему вопросу о смерти и теме смерти в моих стихах… Я писал об этом сравнительно молодым, когда собственного опыта смерти у меня не было – я имею в виду, что у меня практически не было родственников или друзей, которые бы умерли, то есть были, но очень мало. Иначе говоря, как это ни смешно, в моем мире не было смерти!
В вашем мире не было смерти?
Ее не было в моих непосредственных переживаниях. Смерть не вторгалась в тот уютный в своей защищенности мир, где я жил. Естественно, когда становишься старше, начинают умирать друзья – за последние два года я потерял семерых близких друзей. Очень близких. Поэтому, естественно, я не могу об этом не писать. Не то чтобы я что-то особое знаю о смерти – просто… Это как погода. Сегодня за окном солнечно; ветрено, но ветер не сильный; температура средняя… Я на самом деле не знаю, почему там все так, но это часть моей жизни. И вот я сижу в своей комнате вечером и думаю о своем друге, который умирает в хосписе от рака, и это тоже часть моей жизни.
В истории западной философии можно проследить два противоположных подхода к смерти. Один состоит в том, что думать в подлинном смысле можно только о своей собственной смерти. Потом стали думать, что в подлинном смысле рассуждать можно только о смерти кого-то другого. Какой из этих двух подходов вам ближе?
Мне не нравится слово «подлинный» – мне кажется, его вообще следует избегать. Потому что кто будет решать, что подлинное, а что неподлинное?
Давайте заменим его чем-нибудь. «Реально»?
Не знаю… Может, можно сказать так: «Полезнее думать о своей собственной смерти»? Не знаю, мне этот вопрос кажется странным. Я, конечно, прагматичный американец…
Но если заменить «подлинный» на «полезный», то уже я скажу, что этот вопрос омерзителен.
(Смеется.) Он и вправду омерзителен! Я просто пытался придумать какой-нибудь выходящий из ряда вон пример… «Подлинность» подразумевает, что я знаю, что подлинно в том или ином случае, а что нет, тогда как на самом деле я не знаю.
Может, стоит переформулировать этот вопрос в терминах энергии? Какой из двух подходов несет в себе большую энергию?
Для меня?
Да.
Смотря по обстоятельствам. Не думаю, что тут может быть какая-то шкала. Скажем, в последнее время моя собственная смерть меня не очень занимала, потому что умирали мои друзья, я думал о них, пытался им как-то помочь, пока они еще живы. То есть мое внимание, мои страдания в данный момент направлены вовне, к ним навстречу. Но бывает и по-другому. Сегодня тебе хочется пасты, завтра тебе захочется чего-то еще – со смертью то же самое. (Смеется.)
Вы писали о смерти. Помогло ли вам это примириться с ней?
Наверное. В том же смысле, в каком психоанализ должен помочь справиться с проблемой просто в силу того, что ты об этой проблеме поговоришь.
Я не большой любитель психоанализа.
Я бы тоже не назвал себя адептом, но что-то в этом есть, как мне кажется. Когда меня что-то беспокоит, мне почти всегда становится лучше, если я с кем-то об этом поговорю – не с психоаналитиком, конечно, а с женой или с близким другом.
Но вы утверждали, что поэзия – тоже своего рода искренний разговор.
Да, порой я пишу вещи, которые…
…можно назвать исповедью?
Ну, не то чтобы исповедью, но есть вещи, которые мучают или не дают мне покоя… Или я просто с удивлением обнаруживаю, что сказал в стихотворении что-то такое, о чем, как сейчас стало ясно, я думал, может быть, на протяжении многих лет. В связи с чем переживаю некий катарсис! Не в том смысле, что я сам себе говорю: «Смотри, тебя сильно беспокоят экологические проблемы – может, стоит об этом поговорить или написать об этом стихотворение и станет лучше?» Не в этом смысле.
(Оба смеются.)
У меня три финальных вопроса. Что сообщает стихотворению жизнь?
(Смеется.) Ну, Арнис… Это слишком сложный вопрос. Четырехсот страниц не хватит, чтобы на него ответить. Мне кажется, я так или иначе уже ответил на него, когда отвечал на другие ваши вопросы. Разве нет?
Да. Но я надеялся на какое-то обобщение.
Вот как. Какой именно был вопрос, еще раз?
Что сообщает стихотворению жизнь?
Что сообщает стихотворению жизнь… Читатель. Такой будет мой ответ. Потому что без читателя стихотворение никакой жизни не имеет. Вы хотели короткий ответ – вы его получили.
(Оба смеются.)
Но это же правда!
Похоже на правду.
Нет, это правда и есть!
Правда, да не вся.
Ну если я вам начну рассказывать всю правду, меня на это не хватит, потому что ответ будет слишком длинным.
Но вы об этом думали?
Нет.
(Смеется.)
Я о таких вещах вообще стараюсь не думать. Мне интереснее писать стихи, а не думать о них.
Представьте себе молодого, подающего надежды поэта…
Мужчину или женщину?
Допустим, мужчину.
Молодой, подающий надежды поэт, вы говорите? Сначала объясните мне, что значит подавать надежды.
Он пишет, но не уверен в том, что он пишет. Он хочет стать хорошим поэтом. У вас есть возможность дать ему один совет. Что бы вы посоветовали?
Я бы сказал, что если ты действительно любишь это дело, продолжай писать, невзирая ни на что. Пусть тебя отвергают издатели, редакции журналов, отдельные читатели…
Но он настолько не уверен в себе, что уже не понимает, любит он это дело или нет.
Если уже не понимает, то тогда надо переждать – через какое-то время он поймет, любит или не любит. Через год он будет уже другим человеком. И если он решит, что это занятие не для него, пусть займется чем-нибудь другим! В мире куча вещей, которыми можно заняться, – и среди этих занятий есть весьма и весьма достойные.
Последний вопрос будет состоять из двух частей…
Это уже какое-то жульничество! Это не один вопрос, а два!
(Оба смеются.)
На самом деле это один вопрос, но его сначала нужно объяснить. Вы поняли что-нибудь в этой жизни?
Понял ли я что-либо в этой жизни?
Да.
Ну, наверное, что-то понял.
(Оба смеются.)
Что-то я, вероятно, понял. Но больше, наверное, недопонял или понял неправильно.
А из того, что вы поняли, что было самым важным?
Это трудный вопрос. Очень глубокий.
Он не глубокий – он личный.
Глубоко личный.
(Оба смеются.)
Что я понял в этой жизни… Я понял, что в какой-то момент мне придется смириться с тем, что жизнь представляет собой череду перемен, пусть даже я и понимаю прекрасно, что это так. Теоретически я это понимаю, но в жизни мне чрезвычайно трудно с этим смириться… Может, я понял и какие-то более важные вещи, но… Я бы не сказал, что это плохой ответ. Я ответил искренне, а ничего более умного мне сейчас все равно не придумать.
(Оба смеются.)
Вы ответили очень по-гераклитовски.
А, этот! «Войти в одну реку дважды»?
Да. И один-то раз войти в нее трудно, потому что входит уже не тот человек, что хотел войти…
Интересно, насколько по-разному это изречение Гераклита переводят на разные языки – он как будто все время говорит разные вещи. В общепринятом французском переводе он говорит, переводя на английский, «нельзя искупаться дважды в одной и той же реке». Тогда как по-английски это обычно передают как «нельзя вступить в одну и ту же реку дважды». Но это же большая разница – вступить в реку и искупаться в ней! (Смеется.) Но Гераклит у меня еще на очереди – когда-нибудь я сяду и перечитаю его. Мне это действительно нужно сделать, потому что сейчас я понимаю его лишь очень поверхностно, а он гораздо интереснее, чем я раньше думал. У меня есть отличный сборник досократиков – не здесь, а в Вермонте. Там он меня и дожидается. (Смеется.)
Вас ждет Гераклит?
Да. И у меня на участке как раз течет небольшая речка, так что…
(Оба смеются.)
Спасибо вам!
Это вам спасибо – было интересно. Только вот печенья мои вы так и не попробовали…